Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик,
взвейтеся, кони, и несите меня с этого света!
Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего.
Н. В. Гоголь. «Записки сумасшедшего»
1.
Мартовская хлябь норовила съесть телегу целиком. Вместе с дюжим некогда, а ныне исхудалым ямщиком.
Дело-то его нехитрое: коней запряги и езжай. К яму, а за ним к следующему, пока коробья не довезёшь. Тогда и заночуешь спокойно. Да снова — по кругу. Если спросят подвезти, оно и лучше: словом обменяться в дороге. Глядишь, овса перепадёт, или монет подкинут.
Слобода виднелась — ямщик взыграл духом. И ломовые отдышатся, и самому похлебать горячего впору.
— Столько вёрст проскакали, да задумали в смрадной луже покинуть? — ворчал ямщик, хлыстая коней.
Телега выбралась из чавкающей грязи и прикатила к слободе.
«Обод надобно починить», — спрыгнув с воза, подумал ямщик.
— Здоров, Кузьма! Снова в Гиблую Елань? — выставил напоказ гнилые зубы Ефим, пастух. Одет он был в козий тулуп нараспашку.
— Снова, — скупо ответил ямщик и нахмурился. Кто не знал, никогда бы и не сказал, что тому и сорока нет, шестьдесят с лихвой давали. Вконец загнула дорожная доля. По Ямскому приказу, однако, не уйти от повинности — так и вози кладь и служилых людей.
— Митяю, сыну, письмецо отдашь? — спросил Ефим.
— Куда ж мне деваться? — буркнул ямщик в курчавую бороду.
— А я тебе покуда колесо подправлю, совсем изъездилось.
Игнат, подёнщик, коней распряг и в хлев повёл: накормить, воды дать.
— Ясиня! — окликнул Кузьма хозяйку слободы и подошёл к тыну, на котором висел коровий череп.
— Заходь! — скрипнув дверью, из избы выглянула баба в красном платке из крашенины.
Кузьма отворил калитку и забрёл в избу. Пахло щами и изгарью. Волоковое окно затянули кожей, оттого в избе было темно и жарко. На столе горела сальная свеча, на полатях кто-то с поглядывающей из-за съехавших штанов задницей громко храпел.
— Садись, Кузьма. Ай, наваристые щи! — Ясиня помешивала черпальцем капустный суп в казане.
Кузьма скинул шубу, оставшись в душегрейке, умыл у рукомойника лицо и уселся на прибитую к стене лавку.
— Кушай, на здоровьице, — Ясиня поставила пахучую мису, дала вприкуску ломоть ржаного. — С квасом клюквенным, — налила из кувшина. Сама ушла — нечего разговорами докучать: долгий путь, отдых нужен.
Тащиться порядком, конечно, но ямщика не то тревожило. Сколько раз он ни ехал той дорогою, а с цепенящим страхом свыкнуться всё не выходило. Будто бросили не по своей воле в прорубь, а вокруг полыхал огонь, не выбраться. Так и барахтайся, до поры как закоченеют руки и ноги и потянет вниз камнем. Воды ртом нахлебавшись, будешь лежать на дне в глубинной темноте и на свет смотреть в проруби, в то время как подводные гады грызут тебя. Не знаешь каждый раз, чего и ожидать, словом.
Кузьма поднялся. Щи приятно жгли пузо. Не сравнится с похлёбкой, что приходилось в пути, если далеко до яма, готовить. Соль и просо — и так часом приходилось.
Ясиня возилась в мыльне, стирала.
— Благодарствую за сыть! Дай, что принесли, собираться буду! — позвал её Кузьма.
— Эге, несу… — Хозяйка поплелась в избу.
Кузьма направился за тройкой — ехать пора. Сутулый Игнат запрягал вятских саврасых.
— Просьба к тебе, Кузьма.
— Говори, чего надо, — ответил ямщик, продевая ремень-темляк через дужное кольцо.
— Матушке завезёшь?
Игнат вынул из тулупа икону, обмотанную тряпицей. Ямщик молча взял её и положил в сосновый сундук на возе.
— Коли проголодаешься… — подёнщик протянул мешочек с вяленой свининой.
Кузьма сунул мясо в котомку со снедью и кивнул признательно. Чёрные, блестящие от жира патлы затряслись, словно языки колоколов, гудевших о несчастье.
Над головами, будто измываясь, кружил ворон. Предвестнику гибели было отрадно видеть разлагающуюся слободу: сколько не вернулось с войны, сколько животов повалили болезни, сколько не вынесло бездонных поборов… «Гар-р-р! Ещё-ё-ё!» — требовал пернатый демон. А кто выжил, те довольствовались крохами, что оставались после повинностей.
Гар-р-р!
— Иду-иду! — бежала с торбой Ясиня. — Насобирала поручений тебе, Кузьма.
Стала она доставать, оглашать, кому от кого.
— Енто Микита-холоп передал братцу меньшому, Фёдору. Авдотья сама думала просить, да слегла хворая. Держи, Герману, отцу её, завезёшь. Свистульку с конём-качалкой Ярославиным детишкам отдай.
Ямщик, не спрашивая, складывал — не впервой вёз.
— А енто, — Ясина трясучими пальцами достала письмо, — Михайле моему, пущай знает… живём как… — Ясиня махнула рукой, едва не разревевшись.
Кузьма разместил всё по коробьям, на телегу запрыгнул — и сорвались кони, погнали в три креста аллюром, только грязь разлеталась.
2.
До Сохшей Пади вёрст пятьдесят, а там столько же ещё до Гиблой Елани. Немощь всё больше одолевала, чем дальше ехал ямщик. Развернуться бы, хлыстом стегануть — ррраз! — по взмокшим лошадиным спинам и вырваться из-под тени, что становилась гуще. Казалось, кто-то худой и огромный, плывя по замёрзшему небу, наблюдает сверху, и порой слышалось, как он шепчет: подыхай, ямщик, подыхай…
Кузьма натянул шапку на уши и в шубу укутался, только нос выглядывал. Знал ямщик, назад не смел повернуть. Обязан поклажу доставить, ждали его.
— Бр-р-р! — Ямщик потянул за вожжи.
Коренник замедлился, а с ним запыхавшиеся пристяжки1. На пне, перед чахлым лесом, сидел человек. Башлык накинул на голову, обхватил себя руками, замерзал.
— Ходи-и! — позвал его Кузьма.
Если заблудился, одна дорога ему: в Сохшую Падь. Подвезти если, то пусть запрыгивает, место найдётся.
Путник встал, к телеге двинул. А ветер ловчился сдуть его, свалить в сугроб, чтобы покормил собой червей по теплу. Свалить не удастся — так хоть просквозить, чтоб кровью исхаркался.
— Как звать? — поинтересовался ямщик, разлепив обветренные губы; на коричневой бороде сверкали льдинки.
Путник не ответил. На воз запрыгнул и уселся за ямщиком.
— Гэть!
Хлыст щёлкнул, и покатила телега по дороге, занесённой снегом. К Господом покинутой земле. Туда, где извелась живность и редко встретишь какое растение. Туча дождём там и не плакала. Сколько бы раз ни ехал Кузьма, но всё не мог избавиться от страха, что забирался змеем под рёбра, когда укорачивался путь до Гиблой Елани.
— Откуда шёл? — крикнул ямщик, вывернув шею, чтобы ветер не проглотил слова.
Путник сидел в лёгкой епанче, лицо скрыто под башлыком. Не отозвался, не услышал, видимо.
— Места здесь безлюдные! Заплутаешь, и дорогу спросить не у кого!
Путник кивнул в ответ. А пальцы синюшные, что у покойника, заметённого пургой. В дорогих сапогах сидел: никак из боярских?
Ямщик не спрашивал больше. Пускай отогревается, прикрытый коробьями. Если явился по государевым делам, так может и раскошелиться. Спасли, как-никак. Продрог бы, раздолье волкам устроил.
Мороз крепчал, снег сильней западал. Не желала весна наведываться в эти места. Мало зима забрала до смерти замёрзших, мало детишек наградила тяжёлыми хворями.
«Шкуру с тебя содрать и розгами по мясцу розовому лупить, лупить, пока свет не мил станет. Не укрыться тебе, ямщик. Больше не дашь, как в тот раз, стрекача…»
— Ба-а-атюшки!
Ямщик дёрнулся, вожжи из рук выпрыгнули, вскочил. До пят самых пробрал нутряной голос у правого уха, свирепый голос.
«Путник… чего это он?..»
Там же и сидел путник, голову закинул на короб, задремал, видать. Далеко — не успел бы нашептать и назад отпрянуть.
Ямщику, должно быть, чудилось. Утомился, передохнуть пора.
Стемнело.
В морозном небе искрились звёзды.
Впереди завиднелся ям. У избы скакал шальной огонёк. Ходил кто-то.
Телега остановилась. Голова путника съехала с короба, проснулся.
— В Сохшую Падь приехали. Идём, у печи отогреют, — сказал ямщик.
Путник слез с воза, приблизился к ямщику и вынул мятое письмо из-за пазухи. Кузьма взял его. На письме было старательно выведено: «Каторине Кляйбер». Следом путник протянул другую руку, зажатую в кулак. Ямщик подставил пригоршню, и в неё, звякнув, упали холодные кругляши. Путник повернулся и пошёл в сторону Гиблой Елани.
— Куда собрался? — крикнул ямщик в спину. — Околеешь, в избу ходи!
Путник, не обернувшись, потопал дальше.
— Как знаешь… — пробухтел Кузьма, спрятал серебряные и стал распрягать коней.
За Сохшей Падью приглядывал Данила Дормыш. Тут и жил, с женой и детишками. Кузьма удивлялся, как можно обитать в этом медвежьем углу, не страшась могильного холода, что тянулся от Гиблой Елани.
С подводы2 ямщик решил перекинуть всё в сани, а коней заменить. Он переживал всегда, что вятские колом встанут или начнут в разные стороны рваться, когда встретятся с омертвевшим лицом Гиблой Елани. Даниловы-то кони навидались здешнего ужаса, фыркнут всполошённо, но вместе пойдут.
— Здоров, Кузьма! Давай подсоблю, — вышел Данила из избы, запахивая армяк на ходу.
Коней завели в хлев, телегу затянули под сенник, чтобы снегом не замело.
— Горе у нас, — печально выдохнул Данила. — Гаврила, младшенький, помер. За три дня сдал. Кашлял поперву, а потом говорит: «Дышать тяжко». Я за Яниной-знахаркой в Запрудье помчался, а как вернулся… — Данила утёр рукавом слезу от студёного ветра и позвал: — Ну, пойдём в избу, Кузьма, греться.
В клети на полу, в наспех сбитом гробу, лежал одетый в сорочку мальчик лет десяти. Рядышком сидела Евдокия, Данилова жена, и опускала в корытце с тёплой водой отрез ткани — омывала руки, что были на груди сложены, и лицо Гаврилы. Ямщик снял шапку и, разделяя скорбь, склонил голову. Евдокия не обернулась, а продолжала шептать молитву, касаясь иной раз губами лба и рук покойного.
— Поешь, а потом и на боковую. Стомился, верно, — сказал Данила и повёл ямщика через сени в избу.
На окне по усопшему стояла чаша со святой водой. У печи хлопотал Ивашка, старший сын.
— Садись, Кузьма. Каша как раз подоспела, — определил по смачному запаху Данила.
Ивашка вытянул из печи казанок, наложил в мису и подал ямщику. Сам, тулуп накинув, вышел на двор.
— Ты ешь-ешь, Кузьма, — Данила запалил новую свечу. — А поешь — спать укладывайся. Я тебе местишко подготовил. И мы спать пойдём. Третий день на ногах. А Гаврилку я утром в Запрудье повезу. В притворе при колокольне до тепла и покину. А-то как же хоронить по холоду… да без денег… Эх!
Данила блеснул глазами и повесил голову. Дрогнули языки свечек. По избе забегали колючие тени, точно оголились клыки болезни, что вцепились в Гаврилово тело и не отпускали до последнего вздоха.
Кузьма доел кашу и завалился на лавку, застеленную войлоком. Глаза закрыл, и окутала его медовая дрёма, уснул ямщик, отпустив хмурые думы о Гиблой Елани, что завтра придётся повидать.
Что, ямщик, славно в тепле да сытеньким спится-то? Кистенем грянуть тебе по ногам с размаху, чтобы кости захрустели, да в лес голяком вышвырнуть! Прочуял бы, как оно — израненным помирать. Поползал-поползал и загнулся бы скоренько. Как снег растаял…
Кузьма проснулся, всполошённый. На печи Ивашка сопел, на полатях Данила ворочался, лучина потрескивала. Ямщик надел сапоги, запалил свечу и решил выйти на двор: справить нужду и заодно избавиться от тревоги, навеянной дурным сном. В клети, глянул, на скамье дремала Евдокия, накрывшись тулупом. Огарок истлевал, и почудилось от слабого света, что пуст гроб.
Ямщик тихо, чтобы не разбудить никого, отворил дверь.
Ночь освещала озябшая луна. По снегу бегали искры. Кузьма жадно хватанул носом морозного воздуха. Если бы не знал, что за место, так и запустил бы в душу эту благодать. Однако, где находился, не мог забыть. Помнил: обманчиво всё.
Ямщик поставил свечу у порога, потянулся к штанам, как вдруг застыл, вслушиваясь. Из овина, где сушили снопы, доносился шум. Ямщик пригляделся: дверца в овин распахнута, а внутри что-то звякало, как по железу стучали. Кузьма поднял свечу и, осторожно наступая на снег, чтобы не скрипел, зашагал.
«Дзень-дзень…» — снова лязгнуло.
Ямщик крался, а самому боязно. Представилось, словно на него оружие ковали, хотели пикой проткнуть или заехать секирой по шее.
Ямщик подошёл к двери, посветил: следов на снегу не было. Если кто и прятался в овине, то проник туда до снегопада. Кузьма поднял батог — отмахнуться, если набросится кто. Он несмело зашёл в овин. Поводил свечой по сторонам: снопы куда ни глянь.
«Дзень…» — послышалось из дальнего угла.
Ямщик вытянул перед собой руку со свечой; та ходила ходуном.
«Дзенннь…»
Свет разорвал тьму. Ямщик прищурился — чтоб меня! От увиденного в груди сжалось сердце. Батог выпал из ослабшей руки, свечу только из-за страха овин спалить и не бросил. Кузьма положил на себя крест, задрожал всем телом, вылупился на картину, что скачущий огонёк рисовал замогильной.
Гаврила, в одной сорочке, назад изогнулся, будто ему переломали спину, и водил отвислыми руками над коробом с инструментом, тщетно пытаясь взять лопату. Пальцы его ходили по сторонам, каждый выгибался по-своему. Не получалось ухватить черенок. Только поднималась лопата немного, как падала и — дзень! — бряцала о серп или мотыгу.
Гаврила заметил ямщика, обернулся и впёрся в него взглядом, неживым, знобким. Голова его была склонена к земле, а в глазах — ни отблеска. Чёрные как сажа глаза пожирали свет.
— Чего притащился? — спросил Гаврила не своим голосом. С ним-то, живым, Кузьма не общался прежде, но голос истинно чужой, сипатый, старческий. А рот Гаврилы и не шевельнулся при том.
— Не г-губи… — выдавил ямщик, до смерти напуганный.
Гаврила развернул перекошенное тело и подскочил в пять шагов. Он несколько раз втянул носом, словно хотел удостовериться по запаху, кто перед ним.
«Помер Гаврила… сам видел… не он это, с набок заваленной головой, не он…»
Ноги сделались каменными. Ямщик дрожал со свечой в руке и косился на Гаврилу, что вперился в него угольными глазами.
— Подсоби, ямщик, — произнёс, медленно ворочая головой, через сжатые губы «покойник». — Гавруша упрятал кое-чего, выкопать просит. Я бы и сам, да лопата в руках не держится.
— П-подсоблю, — кивнул Кузьма, ни жив ни мёртв.
— Бери лопату и за мной, — велел Гаврила.
Ямщик вытянул из короба лопату и зашагал следом, за дугой согнутым мертвецом. Тот остановился у стены и приподнял руку, висящую плетью.
— Копай!
Ямщик убрал на пол свечу, раскидал сено и давай долбить промёрзлую землю. А Гаврила в это время стоял позади, наблюдал молча. Слышно было только, как хрустели его пальцы.
«Тых-тых-тых», — въедалась лопата в землю. Ямщик, наконец, приметил что-то, опустился и достал из земли ветошку, перетянутую бечёвкой.
— Разверни, — приблизился Гаврила.
Кузьма перепалил свечой верёвку, развернул ветошку: в ней увесистый кошель, набитый серебряными.
— Гаврила батяне отдать велел, — просипел «усопший». — Нашёл он деньги. Раньше сказать думал, да Михайло Порехутов, откупщик, лапа загребистая, горланить стал, что умыкнули у него. Испугался Гаврила про деньги высказываться. Вот и запрятал. На похороны папаня пущай не тратится, сказал. И не гневается. Полно, ямщик, уходи, проснутся скоро.
Кузьма сунул кошель за пазуху и поспешил вон от хозяина овина, чуя затылком стынь от его взора.
В клети Евдокия стонала, потревоженная кошмаром. Ямщик посветил над гробом: Гаврила лежал, как и требовалось от покойного.
Кузьма вернулся в избу — поспать часок-другой до денницы3.
3.
Чагравые мерины пускали морозный пар носом, притаптывали снег копытами. Не раз везли тягловые ямщика, чтобы тем, кто пребывал в Гиблой Елани, он доставил кладь с письмами.
— С Богом, — напутствовал Данила, прикрывшись воротником от вьюжного ветра.
Ивашка раскидывал снег рядом, потому ямщик приблизился вплотную, чтобы сын не услышал, и зашептал Даниле на ухо:
— Ночью овинник покликал меня. Чуешь? От Гаврилы. Попросил, чтобы не гневался на него, а как есть и поверил: не крал он деньги. Откупщик кошель посеял, а Гаврила и нашёл. Говорить не стал, испугался. Держи, — Ямщик протянул кошель. — На похороны велел не тратиться, а до тепла выждать. Я передал, а ты поступай, как верным посчитаешь.
Данила взял кошель и уставился на ямщика растерянно. Тот запрыгнул на сани, взялся за вожжи.
— Ты, Кузьма, если Гаврилку повидаешь, скажи, что не гневаюсь на него, — Данила помотал головой, — не гневаюсь.
— Пшли!
Тройка рванула, и поехали сани.
С каждой верстой у ямщика становилось всё неспокойней на душе. Мерещилось: из-за одиноких деревьев на обочине выглядывали люди-тени. Порой они выбегали на дорогу, а затем, обратившись в больших птиц, улетали вместе с метелью.
Тот, тонкий и огромный, словно страж, вёл до самой Гиблой Елани. Кузьма не видел его, но чувствовал, что он плывёт где-то над серым безмолвным покрывалом.
Ямщик не раз, заливаясь слезами, рвал глотку, спрашивая у безлюдной пустоты, кто ему велел без продыху кататься в Гиблую Елань. Как упрятали ответ. Словно боярина, обчищенного разбойниками, кинули хрякам на съедение.
Вскоре провалится ямщик в мир, что затворён от живых. Он обречённо поднял к сердитому небу голову, снег, как мошкара, залеплял лицо.
«Сам велел, сам…» — дунул в глаза холодный ветер.
Тройка замедлилась, мерины закачали суматошно головами.
— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, на кресте сокрушивший древнего змия и узами мрака в тартаре связавший, огради меня от козней его… — зашептал ямщик молитву от демонских напастей.
Столько раз стоял он пред дверью в Гиблую Елань, сколько раз сладко шептало бесовское наваждение: «Поворачивай, ямщик, да назад, домой…» — а как впервой стыла кровь в жилах.
— …сохрани меня от всякого зла, дабы я, непрестанно осеняемый светом благодати Твоей…
Щёлк! Хлыст ожёг, и помчалась тройка, преступила порог Гиблой Елани. Огонь заполыхал в лошадиных глазах.
По снегу, оставляя за собой багряные следы, шли босые невидимые взору мученики. От их страдальческих стонов к горлу подкатывал ком, а глаза набухали слезами.
Ямщик не единожды видел Гиблую Елань, когда её отпускали ледяные лапы. Выжженная пустошь. Куда ни повернись: спалено всё. Краски постирали, как факелом прошлись, сделав землю пепельно-сурьмяной.
Ямщик вглядывался вдаль, гнал тройку к плывучему мареву. Там он найдёт тех, кому должен передать послания.
Кислым болотом понесло, горло сдавило. Скоро, значит, покажутся утопленники с удавленниками, которых хоронили не на кладбищах, а зарывали в лесу и в поле.
Сани катили по упрятанным под снегом костям, а с боков, выбравшись из клубящейся дымки, что выплёвывала земля в разных местах, надвигались усопшие, жаждали согреться от очага Гиблой Елани.
— Пошли, гэть, пошли! — нахлёстывал ямщик меринов, чтобы не успели мертвяки ухватиться за сани.
Полчища шли отовсюду. Тела то от воды вздутые, то от удушья почернелые, у кого конечности от падения с высоты скрючены, кто с верёвкой на шее волочил грузный камень за собой. А голоса почёсывали изнутри голову ямщику: «Забери нас… остановись… ты ж как мы, ямщик, как мы…»
Самую малость — и уцепятся мертвяки за сани.
Марево близилось. Воздух плясал там как от летнего жара. Ямщик глянул направо: узнал одного, по сапогам. Тот путник, что просился подвезти, с ремнём, пережавшим шею, и языком набок, тянул руки. Наверное, жёнушке или кому передал письмо, чтобы ждала его, а сам укоротил час встречи.
Мерины фыркнули, и сани погрузились в марево. Поплыло всё кругом, как через воду видишь. Ямщик замедлил ход и, вглядываясь, завертел головой. Щёки облизывал могильный холод. Сердце забилось быстрее. Мертвяки ходили рядом, видел ямщик, но не различить их толком: марево изгибало тела, утягивало. Голоса заглушали один одного. Шушуканье, скулёж, младенческий плач, гогот, истошный ор, шёпот доносились. Мёртвые, согнувшись слегка и свесив руки, бродили вокруг. Гиблая Елань сама вела ямщика.
Добрался.
У длиннущего стола, застеленного поверх рушником, Кузьма остановился и начал, что привёз, складывать на стол. Усопшие тем временем скитались рядом, ждали.
Просьбу не забыть Данилову исполнить.
— Гаврииии-лааааа! — бросил ямщик в марево клич.
Мёртвые забегали размытыми телами, встревожились. Ямщик обернулся — боже милостивый! — Гаврила, как живой, стоял в двух шагах, только от марева, что кривило всё, лица не видно.
— Папаня передать наказал, что за деньги не гневается… — вымолвил ямщик.
Гаврила и не шелохнулся, слова не проронил — постоял, спиной вперёд зашагал и скрылся среди блукающих мёртвых.
Ямщик разложил на столе кладь с письмами, на сани вскочил и прочь понёсся. Каждый своё сам отыщет. А ему бы вырваться из острога Гиблой Елани. Но до того предстояло ещё с одной жутью повидаться: пересечь бранное поле.
Сани выкатили из марева, и как ни готовился ямщик, а в груди сделалось невыносимо больно. Снег расцветили кровью. Один на одном, раскинув руки, лежали ратные люди. Из кого стрелы торчали, кого палашом порубали, кто был залпами из орудий свален. С ними нашли покой и боевые кони, подкошенные. Щиты, шлемы, сабли, булавы, перначи, топорики устилали землю меж павшими. Со всех ног гнала тройка — скорей покинуть кошмарное место.
Ямщик, наконец, выдохнул — пересёк бранное поле.
У самого края Гиблой Елани одиноко стоял курень. Ямщик никогда не подъезжал к нему, а сейчас из трубы тянулся дым, словно его звали в гости.
На душе впервые за много лет стало не так тревожно. Будто повстречал что-то давно забытое, но близкое сердцу. Ямщик развернулся и покатил к куреню, к своей судьбе.
Кузьма помялся немного, борясь с волнением, и зашёл в курень. Внутри горели свечи, а в центре, на стуле, сидел человек. Напротив был ещё один стул. Больше в курене ничего, пусто.
— Здоров, Кузьма, так-таки явился! Чего раньше не заходил? Да ты садись-садись, потолкуем, — уветливо сказал человек громовым голосом. Знакомый голос, слышал его ямщик, слышал, но где — запамятовал.
Он уселся на стул и чуть не упал с него, когда полыхнули свечи и явили человека. По животу как ножом прошлись: нутро наружу вывалено. Левая нога в разорванной штанине висела под коленом рубцеватым обрубком. Одной рукой человек держал другую, на которой не было кисти. На лицо его глянул ямщик и оторопел. Не от того, что голова над выбитым глазом была рассечена до мозгов, а что знаком ему человек, хорошо знаком.
— Тихон, ты? — проскрипел ямщик.
— А я думал, не познаешь! Хорошенько меня швед тогда под Валком4 изукрасил, — растянул человек в улыбке разорванные губы, от чего стал ещё боле пугающим.
— Я же не хотел утекать, Тихон, не хотел, — заговорил ямщик запальчиво. — Швед напуск учинил, так и побежали сотенные, знамёна побросав и холопей. И я с ними побежал. Как же моя пищаль да сабля армии бы той навредили?.. Тихон, не хотел я…
Ямщик упал на колени, из устыженных глаз хлынули слёзы.
— Слыхал, что Матвей Васильевич, воевода, в плен попал, а затем от ран и помер?
— Слыхал, Тихон, слыхал, что полонили его, а что помер… — замотал головой ямщик. — Мы же с мальства знаемся, Тихон. И в войске поместном вместе… всегда вместе. Не гневайся на меня, Тихон, не хотел я. Довольно настрадался. С мёртвыми, считай, только и вижусь после того. Прости! — Ямщик подтащился на коленях, обрубок ухватил руками и стал целовать.
— Чего творишь?! Встань, Кузьма! — вскричал Тихон. — Не надо мне твоего прощения, у себя проси! А если и гневаюсь, так что не заходил ко мне. Зевотно тут одному, и словом не с кем перекинуться. Ходи, обниму.
Ямщик подошёл и крепко-накрепко обнял Тихона, а слёзы ползли из глаз, не остановить.
— Пора тебе, Кузьма.
— И что ж мне теперича… как быть-то?
— А как решишь, так и будет.
Ямщик стал на ноги и поплёлся. У двери замешкал. Но не обернулся, не взглянул в последний раз на Тихона. Дверь открыл и вышел из куреня.
В деревьях задорно пела птица.
Пахло весною.
Примечания автора:
1 Пристя́жка — лошадь, запряжённая сбоку от оглобель для помощи коренной.
2 Подво́да — повозка, телега, обычно грузовая, приводимая в движение конной тягой.
3 Денни́ца — утренняя звезда; образ зари.
4 Битва под Ва́лком — одно из событий русско-шведской войны 1656—1658 гг. Войска псковского воеводы Матвея Шереметева потерпели поражение от шведской армии генерала Левена.
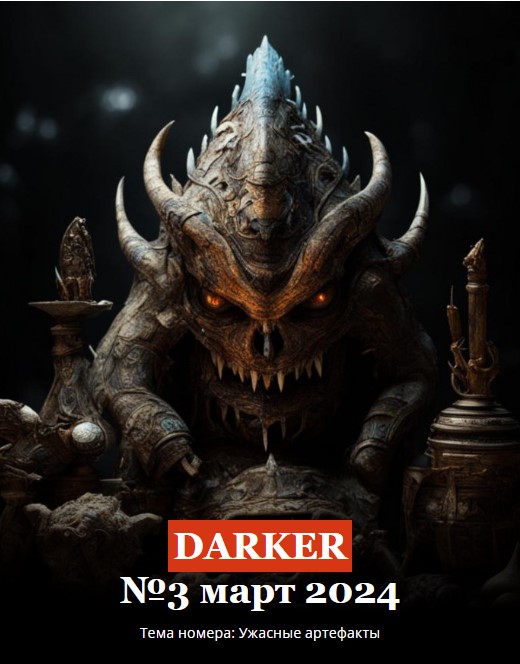


1 Алексей 15-02-2021 02:06
Воистину, трусость - худший из всех пороков.