Елизавета Михайловна
Городская прокуратура занимала половину старого особняка. Поздним вечером здесь было безлюдно и тихо, лишь холодный сигаретный дым, въевшийся в стены, напоминал о дневной суете. Лампы под потолком тлели в четверть накала. Двери уходили шеренгами в полутьму. По случаю рваного ветра окно в дальнем конце коридора было заперто, кривой гвоздь держал форточку. Сквозь частую решётку, прильнув к мутному стеклу, внутрь пялилась июльская ночь.
Елизавета Михайловна привыкла к эху пустых коридоров. Наверное, ей было бы страшнее днём, когда угрюмые конвои тащат на допросы преступников всех мастей, у стен рыдают родственники, а усталые следователи носятся по кабинетам, зажав под мышками папки с историями чужих мерзостей. Прокуратура видела всякое, разве что счастливые финалы здесь были редкостью. Зато незримые миазмы горя и страданий могли поспорить с вездесущим смрадом табака. Нет, полуночная тишь вполне устраивала бывшую детсадовскую няню, нынешнюю пенсионерку и уборщицу Святину. На потолочную лепнину, угрожающую в любой миг рухнуть на голову, она смотрела с равнодушием: чему быть — того не миновать. Что толку дрожать перед неизбежным? В свои шестьдесят три Елизавета Михайловна твёрдо верила: судьба не жестока и не благосклонна. Она слепа и бьёт наугад. Кого-то задевает, по кому-то промахивается, и тогда возникают истории о счастливом везении. Хоть это и глупо — равнять отсутствие голода с сытостью.
Вечер выдался беспокойным. Мало того, что дома её ждёт приболевший Славочка, так ещё областное начальство пожаловало. Вон, заседают в тринадцатом кабинете — дверь прикрыли плотно. Не дают ей прибраться и бежать к сыночку! А главное, чем заняты? Великого ума не нужно, чтобы понять: чехвостят Громова Корней Семёныча, старшего следователя-важняка, и прокурору за компанию перепадает. Такая уж у него, у высокого начальства, жизненная установка — держать людей в страхе.
Елизавета Михайловна с раздражением булькнула тряпку в ведро с мыльной водой, отжала двумя короткими скрутками и кинула на деревянную перекладину швабры. Конечно! На совещаниях они глотки рвать горазды, а нормальной половой щётки не допросишься! Бюджета у них нет! Впрочем, вытоптанный до подложки линолеум чем ни оттирай, а свежее не станет. На нём уже чёрная колея, как дорожная канава, от мокрой тряпки одни лишь лужи.
За дверью в тринадцатый бубнили голоса. Домыв до конца коридора, Елизавета Михайловна отставила швабру и присела на подоконник. Всё равно ждать, пока не кончат. А Славочка дома лежит, болеет. Совсем плох сыночек — с дивана не встаёт, есть отказывается, что ни спросишь у него — бурчит невнятно. Если б не материнская ласка, зачах бы в пять секунд.
Это Анька, стервозина, виновата! Довела Славочку по полной инвалидности. Сбежала и внука украла, Лёшеньку. Где это видано, чтобы тридцатилетний мужик с кровати не вставал? Чтобы с расстройства не то что рюмку — пива не выпил? Довела жёнушка, почти до кладбищенских ворот сопроводила… ай, даже вспоминать эту стерву противно!
Ничего, очнётся Славочка, выздоровеет — мамина забота любого поднимет на ноги. Разыщут они Аньку-вертихвостку, внука у неё отберут — а для чего ей Лёшка при эдакой стервозности? — и заживут втроём очень даже славно. А бабы? Ну что бабы… Славочка у неё парень видный, станет по ночам гулять, как до Аньки хаживал — мать ему не встанет поперёк дороги и словом не попрекнёт. Она же всё понимает.
Голоса в тринадцатом стихли, а после и стулья загрохотали. Распахнулась дверь, и первым, как положено, пошло начальство — двое важных до суровости, в дорогих костюмах, с портфелями. За ними выскочил красный, будто распаренный, прокурор Савельев, а после и простые следователи брызнули на выход, как мальчишки после уроков.
Только важняк Громов отчего-то не вышел.
Елизавета Михайловна заглянула в кабинет.
Старший следователь по особо важным делам навалился на стол, лицо его обмякло, губы были синие, а щеку дёргал нервный тик. Седой, грузный и весь какой-то растрёпанный, Громов мял левую сторону груди и тихо постанывал.
— Ты что это, Корней, помирать вздумал?! — всполошилась Святина и кинулась к следователю. — Брось, не вздумай! Вот, прими валидольчику, у меня всегда с собой.
Сизый дым туманом плавал по кабинету. Елизавета Михайловна распахнула форточку, впуская воздух, цапнула из-под носа у Громова переполненную пепельницу и убрала в угол. Налила из графина воды в чайник и щёлкнула кнопкой. А сама говорила без остановки, отвлекая важняка.
— Сейчас мы с тобой чайку попьём, и полегчает. Зря ты, Корнеюшка, близко к сердцу берёшь. Не мальчик уже, и разносят не впервые… Подумаешь, начальство! Как приехали, так и уедут. А ты плюнь! До пенсии год с хвостиком, пора себя беречь…
— Не дотяну я до пенсии, — скривился Громов, — турнут за несоответствие. Говорят: прошляпил ты маньяка, старый хрен.
Елизавета Михайловна выставила на стол кружки с заваркой, плеснула кипятка и села рядом. Кусковой сахар из разодранной пачки пересыпала в блюдце.
— Это который маньяк: прежний или новый объявился?
— Тот самый, девкин поджигатель, — ответил следователь, посасывая валидол.
Он обхватил кружку широкими ладонями, будто грелся. Пальцы его заметно дрожали, так что кипяток едва-едва не выплёскивал через край. Но лицо постепенно разглаживалось, синюшность сползала с губ. Приступ проходил. Елизавета Михайловна вздохнула с облегчением, а в следующий миг воскликнула:
— Да отчего же ты виноват, Корней? От маньяка-то ни слуху, ни духу! Девки снова по ночам валандаются, подметают юбками кавалеров. Наладилось потихоньку, угомонилось, разве не так?
— Не так. Преступника я не словил, затишье это временное — не моя заслуга. Скорее всего, случилось что-нибудь у этого гада: заболел, жена подала на развод, ребёнка повёз на каникулы. Или просто почерк сменил, научился тела прятать.
Громов вздохнул. Был он мужик тёртый и битый, запредельно уставший, но при этом упрямый и цепкий, хуже бульдога. От этой извечной усталости он мечтал о пенсии, как об освобождении из рабства; видел во сне и дачку с шестью сотками, и рыбалку на утренней зорьке, и предзакатное сидение под яблоньками с шашлыком и самогонкой — все те привычные мечты, на которые богат наш пенсионер. Впрочем, работу мысли не загораживали, расследования Громов вёл скурпулёзно, пощады ни себе, ни другим не давал.
— Правы областные — моя недоработка. Что ж, значит, продолжу следствие, пока не уволили. Но что мы всё о грустном? Расскажи, как там твой Славик поживает? Сто лет его не видел.
Святина зарделась от удовольствия. Нет, хороший всё-таки мужик Корней Семёныч! У самого проблем воз с тележкой — а вспомнил про сына, интересуется. Душевный человек!
— Хорошо поживает, — уверенно кивнула она. — Приболел чуть, так это пустяк. Матери даже приятно за сыном поухаживать. А где он ещё получит такой уход? Не от жены ведь, вертихвостки безмозглой!
— Безмозглой, говоришь? — Громов хмыкнул. — А хочешь, Михайловна, я твою невестку вызову на допрос и мозги ей так прочищу, что она про все хвосты забудет? Как её величают, Анна Святина?
Елизавета Михайловна обмерла, даже дыхание перехватило. Сама себя по щеке хлестнула мысленно: вот дура! Забыла, с кем чаи гоняет, разболталась! Сейчас Громов в мысль вцепится, из лучших побуждений отыщет Аньку-стерву и… Та молчать не будет! Извозит Славочку в семи грязях, всех чертей на него повесит, и про остальное-лишнее, не для прокурорских ушей…
— Токарева она, не меняла фамилию, — ответила Святина и зачастила: — Только, Корнеюшка, зачем нам лезть в молодёжные дела? Пусть сами разбираются! А не разберутся — тоже невелика беда. Что у нас, разводы запретили? Не в пещерном веке живём, люди цивилизованные, договорятся!
— Ну, моё дело предложить, — кивнул Громов. — Но если передумаешь, только скажи. А теперь ступай домой, Михайловна, поздно. Я-то дежурю в ночь.
Темноты Елизавета Михайловна не боялась, хоть и ходила через полгорода: жила Святина на отшибе, за железной дорогой, в маленьком домишке, оставшемся от родственников покойного мужа. Но сегодня вышла из прокуратуры, трясясь киселём. И виной тому был не пронизывающий, редкий для июля ветер. Ноги несли Святину домой, руки привычно запахивали старенький плащик и прижимали к груди сумку, а в голове скакала взбесившимся козлом паника. Что она наделала! Корней Семёныч — ищейка упрямая, хоть и обещал не лезть, а ради «доброго дела» нос сунет. Нельзя ему с Анькой встретиться! Ни нарочно, ни случайно!
Есть способ поправить оплошность… если занять Громова поплотнее. От пришедшей в голову мысли Елизавета Михайловна ахнула и замерла посреди дороги. Господь всемогущий! Неужто указуешь путь к спасению? Или лукавый потешается над старухой?
А не всё ли одно, если ради сына?
Елизавета Михайловна сжала губы в тонкую нить и заспешила домой.
Анна
Дед Иван был высок и сух, как тот ясень, который по весне листвы уже не даёт, но и гниль к себе не подпускает. Смотрел на неё с лаской, но и с вопросом: как так, десять лет пропадала, а теперь вдруг нагрянула? Да не с простым «здрасьте» — с чемоданами и с мальцом под мышкой. И плетёт не пойми что.
— Ты мне, Анюта, голову не дури! Говори, как есть: чего удумала? Разводишься, что ли?
— Вроде того, дед Вань.
Старик крякнул и припечатал с осуждением:
— Горожанка!
В махонькой Сосновке, укрытой от современных нравов лесами и скверными дорогами, жили по старинке, чуть ли не домостроем. Человек определялся крепостью хозяйства, а про всякие гламуры, душевные метания или — того хуже — любовные перипетии деревенские знали из сериалов, но считали чем-то экзотическим, вроде малопонятной сказки, к реальной жизни отношения не имеющей.
Десять лет назад она сбежала из этой вековой скуки, а теперь вернулась обратно. Не для себя, ради сына, потому что оказалось вдруг, что только в устаревшей и примитивной Сосновке есть люди, которым она может доверять.
Дед Иван не был родственником. Когда в аварии погибли родители, её, восьмилетнюю малявку, спасла от приюта бабушка Полина, жившая в Сосновке. А через полгода сама умерла от гриппа. Тогда девчонку забрали Поликарповы, Иван и Александра. Никаких бумаг не выправляли, за разрешениями не бегали. Что Аня для них не родная — вся деревня знала и считала нормальным, правильным. Сдать ребёнка в детдом? Да кто ж на такое пойдёт! Или не люди мы? Так и прожила она в чужой семье, ставшей ближе полузабытой собственной, до окончания школы. Пока в город не сбежала.
А фамилию менять дед Ваня и баба Шура сразу запретили.
«Помни, Анюта, родных отца с матерью, а мы за ними следующими будем».
Так она и проходила до замужества Токаревой, никакого официального отношения к Поликарповым не имея. Что нынче оказалось просто спасением.
Одна была загвоздка — убедить деда Ваню. Для этого она, уложив сына, и затеяла полуночный разговор.
— Нет, я всё понимаю, — старик потянулся за папиросой, но, вспомнив о ребёнке в хате, с досадой прихлопнул по колену. — Приехала мальца показать — молодец! Жаль, опоздала чуток: баба Шура счастья такого не увидела. Что разводиться вздумала — не одобряю, но и указывать не могу. Ты кусок оторванный, десять лет живёшь своим умом. Плохо ли, хорошо — тебе виднее. Но отчего ты с меня тайны какой-то требуешь? Я, Анюта, в жизни от людей не хоронился!
— Деда Вань, да как же тебе объяснить… Нынче развод — не просто так, сейчас всё через суды делается. Заседания, адвокаты, всю подноготную вытаскивают, все интимные подробности, и прилюдно обсуждают. Правых и виноватых ищут, а может, и не ищут — назначают. Как я сыну в глаза смотреть буду, если всю грязь про родителей соберут и вывалят на него? Какое детство ему останется?
Старик вцепился в седые волосы и простонал:
— Господи, ещё и свары судебные! Позорище-то какое!
После вскочил и, схватив папиросную пачку, кинулся во двор.
Она вышла следом. Ночи в Сосновке всегда тихие. Густые леса вокруг не пускают ветер, небо высокое и многозвёздное, воздух — хоть тёплый летний, хоть морозный зимний — ударяет в голову почище шампанского. Июли жаркие, напитанные ароматами цветов, навоза и парного молока — запахами не вполне благородными и утончёнными, но настолько естественными, что вдыхание их рождает волшебное чувство родства с природой, с землёй, со всем миром. Дарит покой.
Аня вспомнила извечные городские ветра, стылые и с дымом от заводских труб, и усмехнулась. Она правильно сделала, что забрала сына и привезла сюда, в Сосновку. И если для их общего спокойствия нужно, чтобы она врала деду Ване — она будет врать!
— По всему городу пропадали девчонки-старшеклассницы, — сказала она, присев на лавку рядом со стариком, — по одной в месяц, как по расписанию. После в заброшенных домах находили тела, облитые бензином и сожжённые. Девять девчонок нашли, весь город переполошился, а потом как отрезало. Словно и не было маньяка.
Дед Иван слушал молча, пыхтел папиросой, глядя в ночь, только желваки ходили под острыми скулами. Городов он не терпел, по своей воле никуда не ездил, и Аня, зная его стариковскую упёртость, намеренно подливала масла в огонь. Впрочем, и лишнего болтать не хотела.
— Маньяка так и не нашли. А может, не особо искали. Вот такая история, дед Вань. Как в таком городе сына растить, как на улицу выпускать, одного оставить? Поэтому собралась я — и в Сосновку. Никому не сказала, и, главное, чтобы благоверный мой не разузнал. Потому что вмиг налетят отбирать сына. Мамаша его, свекровь моя ласковая, работает в прокуратуре, попросит кого надо — и не видать нам больше Лёшки.
Старик вздохнул. Кинул папиросу под лавку, пригладил волосы, пробурчал:
— Да я что, против, что ли? Живите запросто — и тебе с мальцом покой, и мне радость. А как помру — хоть будет кому похоронить.
Аня уткнулась лицом деду Ване в плечо, обеими руками обняла за шею.
— Погоди умирать, — шепнула. — Я в город должна вернуться, развестись. Как дела закончу, сразу обратно. А вы пока тут, на хозяйстве.
— Долго будешь телепениться?
— Как пойдёт…
Старик крякнул, плюнул на землю и ушёл в хату, в сердцах брякнув дверью.
Аня сидела на лавке и тихонько плакала.
Как ей рассказать деду Ване, мир которого столь прост и понятен, что она видела маньяка, знает его, но в полицию не пойдёт?
Не сейчас, по крайней мере.
Потому что она мать, и её цель — хранить сына. От убийц, от простуды, от длинных языков и ядовитых сплетен. Она обязана дать своему ребёнку нормальную жизнь — пусть в этом захолустье, зато нормальную. Остальное не важно!
И она не закончила. Её сын всё ещё в опасности.
Аня выхватила папиросу из забытой пачки и затянулась. Едкий табачный дым ударил в ноздри, память совершила кульбит, и тихую деревенскую ночь наполнил вдруг смрад горящего бензина. Как тогда, месяц назад.
Она выследила маньяка, потому что знала, за кем следить. Подозрения рождались, как раковая опухоль — тихо и незаметно, пока в один из чёрных дней не превратились в уверенность. И даже тогда ей пришлось увидеть всё собственными глазами, чтобы поверить.
Она хорошо рассмотрела лицо в отблесках бензинового костра, пожирающего тело очередной девчонки.
Она даже знала, что полиция ошиблась — маньяк никого не насиловал, он давно уже не мог. Он вымещал злобу от собственного бессилия на случайных девчонках.
Зато она совершенно не представляла, как жить дальше. А потому, схватив сына, решила бежать. Но убийца оказался проворен. Он настиг её у дверей квартиры. Втолкнул внутрь, пытался говорить, убеждать, угрожал — и тогда она схватила нож и всадила ему в живот.
Как ей объяснить деду Ване, что она убила собственного мужа?
Как ей защитить сына от неизбежной славы маньяка-отца? От ярлыка, который навечно прилипнет к её мальчику. От соседских пересудов, от пугливого шёпота в спину, от плевков и всеобщей ненависти в лицо. От всего того яда, который изгложет жизнь безвинного ребёнка, исковеркает, отравит и убьёт его душу, чтобы через годы, возможно, отрыгнуть нового убийцу.
Только бежать! И врать. И уничтожать любые улики, которые связывают её сына и маньяка-поджигателя.
Елизавета Михайловна
Она забежала домой буквально на минутку. Но заглянула на кухню, увидела, что Славочка опять ничего не поел, и тяжко опустилась на табурет.
Елизавета Михайловна никогда не пеняла на возраст. Потягай-ка вёдра с водой, помаши шваброй каждый вечер — никакой модный фитнес не понадобится. Но иногда, в такие вечера, как нынешний, она чувствовала себя столетней развалиной. Готовишь, бегаешь, моешь, спасаешь — а сынок даже не поел!
Она даже всплакнула — не то от обиды, не то из жалости. После подхватилась, собрала в тарелку голубцы, варёную картошечку и пару малосольных огурчиков — понесла Славочке в комнату.
Сын лежал, привычно уткнувшись носом в стену. Мать будто не заметил. Дух в комнате стоял тяжкий — видать, снова Славочка курил натощак при закрытых окнах. Казалось, ковры на полу и стенах насквозь пропитались ядрёной смесью табака и болезни.
— Всё лежишь? — ласково спросила Елизавета Михайловна и, поставив тарелку возле кровати, погладила сына по русым волосам. Тот дёрнул плечом и буркнул что-то неразборчивое.
— Ничего-ничего, отдыхай! После покушаешь, я тебе оставлю. Хочешь, полежу с тобой чуток, погрею спинку?
Сын не ответил, но вроде как подвинулся на волосок. Елизавета Михайловна улыбнулась и, сбросив плащ, осторожно прилегла рядом. Она поправила одеяло и принялась гладить исхудавшую спину с выпирающими лопатками, узкие плечи и давно не стриженный затылок. Славочка молчал, но она чувствовала, что материнская ласка приятна ему. Раньше, давным-давно, она так же лежала с сыном и пела колыбельные перед сном. Теперь он не хотел песен, и Елизавета Михайловна развлекала больного дневными новостями.
— Начальство из области приехало, из Корней Семёныча душу вынули. Заставили маньяка искать. А я, дура старая, возьми и брякни невпопад! Про Аньку-шалаву, конечно — ведь оговорит в минуту! Потом ходи, оправдывайся… Но ничего, не бойся — мама уже придумала, как беде помочь. Прямо сейчас сбегаю на часок-другой и управлюсь с этой незадачей.
Сын завозился и пробурчал глухо, будто через одеяло:
— На квартиру зайди. Там на антресоли, в жёлтом чемодане. Забери. Тогда Анька не страшна.
Елизавета Михайловна закивала обрадованно — не каждый день сыночек с ней разговаривает.
— Зайду-зайду, обязательно. Ключ от твоей квартиры у меня сохранился, так что заберу. — Она пригладила растрёпанные вихры на его затылке и едва слышно сказала: — А знаешь, сынок, ты не сердись, но я даже довольна, что всё так вышло. Что Анька сбежала, что ты ко мне вернулся, даже что приболел — рада. Когда ты семейство на квартиру перевёз, я ведь что думала? Всё! Осталась одна! Сама с собой разговаривала, по вечерам на луну выла, что твоя собака. А борща наварю — и держу в тепле, жду: вдруг в гости соберётесь? Потом, как прокиснет, выливаю — в одиночку есть никакого интереса — и следующий варю. Так каждый божий день — в пустой квартире, без тепла, без смысла… Однако что-то разболталась я сегодня, одни глупости на уме. Побегу, пожалуй.
Славочка молчал. «Заснул, должно быть», — подумала Елизавета Михайловна, неслышно поднимаясь с кровати. Вот и славно, она как раз успеет все дела переделать, а больным отдых — первое лекарство.
В чулане обнаружилось необходимое. Елизавета Михайловна собрала хозяйственную сумку, стараясь не набивать слишком тяжело, закуталась в плащ и выскользнула за дверь.
В городе каждый знает, что по ночам Зареченский парк — излюбленное место алкоголиков и наркоманов. В прежние времена местный Дворец культуры присматривал за выходившей к обрывистому берегу рощей. Нынче и сам Дворец превратился в полуразрушенный остов, и былой парк оккупировали компании, далёкие от культуры. Шумные алкаши порой устраивали дебоши с поножовщиной, наркоманы — людишки в основном юные — стайками и поодиночке ютились по тёмным углам, а если и куролесили, то подальше от жадных глаз пьяных компаний.
Судьба улыбнулась Елизавете Михайловне. Едва войдя в парк, она заприметила четвёрку девиц — не то школьниц, не то пэтэушниц, в темноте не разобрать. Те заняли крохотную полянку, спрятанную в кустах, развалились в своих глупых маечках и мини-юбках на холодной траве. Вокруг валялись шприцы, рука одной была перетянула жгутом. Елизавета Михайловна покачала головой и вздохнула: мало того, что наркоманки, так ещё и застудят себе женское! Как рожать будут, дурынды?
На миг бывшая няня взяла верх. Ей захотелось выйти на поляну, отчитать глупых девчонок, быть может — отхлестать по задницам. Но в следующую минуту Елизавета Михайловна вспомнила больного сына, и свою непростительную оплошность, и Корнея Семёныча с глазами азартной гончей — желание воспитывать ушло. Конечно, будь у неё выбор, она ни за что не отправилась бы в Зареченский парк. Но выбора не было. Зато Господь привёл её к поляне, к подходящим девицам. Чем не знак, что Он видит и одобряет? Разве Он не прощает заранее любую мать, спасающую ребёнка?
Девчонка со жгутом на руке — тоненькая, веснушчатая, с короткими рыжими волосами — поднялась и, не открывая глаз, на ватных ногах принялась танцевать под музыку, слышную ей одной. Остальные не двигались, будто спали или умерли.
«Пора!» — решила Елизавета Михайловна. Она вышла на поляну и подхватила рыжую танцовщицу под локоть. Та улыбнулась в бессмысленном трансе.
— Мамочка?
— Конечно, милая, конечно, — ответила Елизавета Михайловна ласково. — Пойдём-ка со мной, с мамой. Тут недалеко.
Они отошли шагов на десять, когда девчонка распахнула глаза. Под лунным светом они показались удивительно красивыми — синие с тёплыми искорками внутри.
Святина обмерла, а рыжая засмеялась:
— Ой, мама, какая ты забавная! Вся такая старенькая, морщинистая, в позорных обносках! Только косы не хватает — и будешь чистая смерть! Умора, правда?
— Конечно, доченька, — через силу прошептала Елизавета Михайловна.
Она достала из сумки молоток и, всхлипнув, ударила хохочущую девчонку в висок.
Смех оборвался.
Рыжая стояла на шатающихся ногах и изумлённо пялилась на ложную мать. По щеке побежала тонкая струйка крови, наркоманка подняла руку, утираясь.
Елизавета Михайловна, не в силах глядеть в эти синие глаза, зажмурилась и ударила снова. Потом ещё и ещё. Она била и била, куда придётся, не думая о точности. Молоток гулко ударял в кость, чавкал в мягкое, разбрызгивал горячие капли. Некоторые падали Святиной на лицо, и она чувствовала каждую, как маленький ожог.
Наконец молоток улетел в пустоту, не встретив преграды, а у ног Елизаветы Михайловны послышался глухой стук упавшего тела. Тогда она осмелилась открыть глаза.
Судя по кровавому месиву, в которое превратилась голова рыжей, девчонка была мертва. Елизавета Михайловна закрестилась быстро-быстро и, шепча молитву, выудила из сумки бутыль с бензином «Зиппо». Наскоро облила труп и дрожащими руками достала спички.
Она не могла зажечь ни одну. Тонкие палочки чиркали мимо коробка, ломались в пальцах, падали в траву. Елизавета Михайловна рыдала в голос, вообразив, что убила девчонку зазря, что бес посмеялся над ней, толкнул на преступление, а теперь не даёт сжечь тело. Но наконец, на тысячной или миллионной попытке, на серной головке расцвёло голубое пламя.
Елизавета Михайловна кинула спичку на труп и побежала прочь. Подальше от костра, от шашлычного запаха и синих глаз.
«Господь всемогущий, всемилостивейший, всезнающий! Если назвал Ты праведником Авраама за убийство сына своего Исаака, то разве недостойна зваться праведной мать, сына спасающая? Простишь ли Ты меня? Примешь ли?..»
Елизавета Михайловна плакала. Искренне, отчаянно. Перед глазами стояло смеющееся веснушчатое лицо, синие глаза прожигали сердце насквозь. В груди стреляло так, что пришлось встать на минутку, отыскать валидол.
«Это ради тебя, Славочка! — с исступлением повторяла Елизавета Михайловна. — Пусть расследуют очередное преступление маньяка! Теперь Громову будет не до Аньки. Начальство уехать не успело, а тут снова… Когда ещё разберутся, что да как!»
Елизавета Михайловна спешила по ночной улице, всхлипывая и улыбаясь. Она спешила к сыну. Как он там один, ночью, без неё?
А ведь ещё нужно успеть на Славочкину квартиру, забрать с антресолей жёлтый чемодан.
Но как же давит в сердце…
Анна
Она вернулась в город на автобусе и первым делом перетряхнула карманы, выбросила все квитанции и билеты. Теперь никто не узнает, куда она ездила. Если её арестуют, она станет молчать — что бы ни случилось, она не скажет про сына ни слова! Лучше она отсидит, перетерпит. Говорят, нынче за бытовуху много не дают, а если вести себя тихо — можно выйти на условно-досрочное.
Вот тогда она и вернётся в Сосновку.
Как ни крути, а обычный уголовник в семье — это совсем не то, что маньяк-садист. Обычных сидельцев в нашей стране каждый пятый. Никто и не удивится, даже если прознают.
И всё же страшно…
Аня купила местную газетёнку, уселась на лавочку в привокзальном сквере и перевела дух. Тонкие листы желтоватой бумаги неприятно попахивали свинцовыми чернилами, газета шуршала на ветру и пачкала пальцы. Больше всего Аня боялась, что в её отсутствие полиция обыскала квартиру. Если так, то она опоздала, и город уже месяц как обсуждает смерть проклятого маньяка. Тогда её возвращение бессмысленно, и лучше всего ближайшим автобусом бежать обратно, в Сосновку. Но если не обыскали — тогда ей обязательно нужно опередить полицию.
Аня встряхнула газету, и взгляд упёрся в заголовок: «Очередное злодеяние бензинового маньяка!» Ниже шла невнятная, истеричная статья про найденный в Зареченском парке труп. Автор не столько рассказывал, сколько причитал и давил слезу.
«Как так? — Аня судорожно пробегала глазами по строчкам. — Этого не может быть! Я ведь убила его! Или нет? Неужели выжил? Но как?»
Она помнила шершавую рукоять разделочного ножа в своей ладони. Помнила, как лезвие вошло, будто в холодец, в мягкий живот мужа, срезав пуговицу с рубашки. Как ошпарила пальцы кровь и ненавистный урод повалился на пол. Как она выхватила из кровати сонного Лёшку и, закрывая его лицо рукой — чтобы не смотрел, чтобы не видел, — переступила через ворочающееся тело и бросилась в ночь.
Он не мог выжить!
Но если выжил — вполне может поджидать её в квартире.
Пешком Аня добралась до их улицы и замерла под козырьком единственной остановки. Подходили дребезжащие автобусы, принимая и высаживая пассажиров, удивлённые водители держали перед ней двери открытыми: «Ну чего, заходишь?» — а она словно окаменела и не могла отвести глаза от окон на втором этаже.
Раз ей почудилось, будто колыхнулись занавески. Сердце прыгнуло к горлу, Аня чуть не заорала, но вовремя зажала рот ладонями.
Сидящий рядом на лавочке старик хмыкнул и повертел пальцем у виска.
«Что делать, если он живой? — думала Аня. — Снова прыгать на него с ножом? Нет, не выйдет. Тогда ударила с перепугу, в истерике, потому что перед глазами ещё пылал тот костёр. Сейчас я не смогу, рука не поднимется. Да и он не позволит. Скорее всего, спеленает меня, как куклу, и вечером будет в городе на один костёр больше. Но главное — будет пытать, где Лёша».
Затея с уничтожением улик показалась вдруг неимоверно глупой. Какой смысл шарить по углам, если вот оно, главное доказательство — живой маньяк? И никаких гарантий, что он захочет молчать после поимки. Кто знает, что у них на уме, у психов? Аня вспомнила, как периоды затяжных молчаний сменялись у него безудержным словоблудием — он говорил, и говорил, и говорил. Нёс всякую чушь; мог разбудить её среди ночи, чтобы поделиться свежей идеей, только что пришедшей в голову, или начать хвастать, как здорово он распланировал будущий отпуск, или просто рассказать последнюю прочитанную книгу. Тогда ей эти странности казались жутко милыми, доказательствами его внимания; теперь она дрожала, вспоминая о них.
«Мне придётся убить его снова, — поняла Аня, — ради сына. Нельзя, чтобы его папаша выступал в суде, чтобы его показывали по телевизору, интервью брали, вечно охотились за нами. Не знаю как, но я обязана! И с этим нужно смириться».
Она украдкой вытащила из сумки большие портняжные ножницы, которые украла у деда Вани, и переложила в карман. Набрав в грудь воздуха, решительно шагнула на мостовую.
Дверь их подъезда распахнулась, и на улицу выскочила свекровь Елизавета Михайловна. Лицо её было странным — перекошенным от отчаяния и одновременно просветлённым, будто старуха увидала Бога с дьяволом в обнимку. Время от времени старуху передёргивало, будто судорогой, тогда она стонала и кособочилась на левую сторону. Руки её были заняты большой хозяйственной сумкой и жёлтым чемоданом — тем самым, который муж хранил на антресоли и никогда не открывал при свидетелях.
Аня замерла.
Тогда, убегая, она начисто забыла про чемодан. Но увидев его в руках свекрови, поняла: именно там и только там будут все трофеи маньяка.
Зачем и куда Елизавета Михайловна потащила вещи? Если бы её спятивший сыночек был мёртв — Аня успокоилась бы: мать уничтожит любые улики против своего ребёнка, а значит, чемодан исчезнет в печи деревенского домика. Но теперь, когда Славик, возможно, жив, она не была в этом уверена. А вдруг старуха, ополоумев от материнской любви, выполняет капризы психованного сынка? Бегает по его приказам?
Аня решилась. Она пошла в полусотне шагов позади Елизаветы Михайловны.
В конце концов, у неё тоже есть сын.
И она обязана раз и навсегда вычеркнуть из его жизни такое прошлое.
Любой ценой!
Елизавета Михайловна
Она спешила изо всех сил.
Проклятые годы предали её в самый неподходящий момент. Едва она зашла в квартиру, едва стащила жёлтый чемодан с антресоли — сердце пронзила раскалённая спица, уронила Святину на пол. Так прихватило, что Елизавета Михайловна насилу доползла до дивана и рухнула в беспамятстве.
Иногда сознание прояснялось, и тогда она, вспомнив о Славочке, хотела вскочить, бежать к нему. Но сердце сжала чья-то жестокая рука, сунула в мясорубку и крутила… крутила… крутила… А ещё перед глазами застыло лицо той рыжей девчонки. И тихий смех в ушах, зовущий: «Мама, мамочка!», и вспыхнувший бензин: едкий, прожорливый, жадный…
Полумёртвой она провалялась до полудня, беспрестанно шепча онемевшими губами: «Как он там, без меня?»
После, слегка очухавшись, Елизавета Михайловна бежала домой, к сыну. Сердце ещё ныло, но материнский инстинкт заставил позабыть о мелочах. Время от времени она замирала, чтобы отдышаться и кинуть в рот очередную таблетку валидола. После подхватывала опостылевшую сумку с чемоданом и брела дальше, за железную дорогу, в частный сектор на краю города. В глазах плыл туман. Хорошо, что она наизусть знала все повороты и ухабы, могла бы пройти этот путь вовсе без глаз.
А дома оказалось по-обычному тихо и спокойно.
Елизавета Михайловна бросила вещи в коридоре, заглянула к сыну — спит родненький — и, упав на табурет, заплакала. От облегчения и от мысли, что именно теперь, когда она смогла, добежала, спряталась за родными стенами, всё станет хорошо и никакие болезни не достанут здесь ни её, ни Славочку.
Скрипнула входная дверь и знакомый голос сказал:
— Здравствуйте… мама.
Анна
Она вошла в дом, выставив ножницы перед собой. Она готова была убивать — собственно, ради этого и заявилась, — но, увидев старую несчастную женщину на табурете, вдруг глупо промямлила:
— Здравствуйте… мама.
Елизавета Михайловна с трудом открыла глаза. Взгляд её был мутным, плывущим, лицо искажали болевые судороги. Но она узнала гостью.
— Анька! — прошептала старуха еле слышно. — Припёрлась, стерва! Что, не живётся с богатеем? Или решила добить нас со Славочкой — не вышло в первый раз, думаешь, получится со второго захода?
— О чём вы? — удивилась Аня и вдруг поняла: — Это он вам сказал, будто я к богатому удрала? Так он жив? Враньё, Елизавета Михайловна! Я вам сейчас расскажу…
— Убью гадину! — страшно зашипела старуха и, выставив перед собой пальцы-крюки, вдруг сползла на пол.
Её выгнуло дугой, изо рта пошла пена, глаза закатились. Кожа стала прозрачной, и под ней проступила синяя паутина сосудов. Елизавета Михайловна забила ногой, руки заскребли по линолеуму, пока не наткнулись на ножку табурета. Вцепившись в неё, старуха силилась встать, но лишь дёргалась, будто в припадочном танце.
Аня кинулась было к ней, но вспомнила про телефон, схватила и, повторяя: «Сейчас-сейчас! Я сейчас вызову!», набрала скорую. Прокричала в трубку адрес и, подхватив свекровь, прижалась лицом к её волосам.
Она пришла в этот дом за смертью, и она получила её. Но совсем не такую, на которую рассчитывала. Бессмысленную смерть невинного человека, такой же матери, как и сама Аня.
Это она привела в дом смерть, это она виновата!
Аня задохнулась этим пониманием, чистым и безжалостным, и закричала.
Врачи приехали быстро.
Они оттащили бьющуюся в истерике женщину, но Елизавете Михайловне помочь не успели.
— Инфаркт, — пожал плечами медик и заглянул в соседнюю комнату.
Через секунду он блевал, скорчившись на пороге.
Второй вызывал полицию.
Громов Корней Семёнович
Следователь-важняк, седой и грузный, примчал к Святиным после невнятного и суматошного вызова от местных патрульных. Он ещё не сдал суточное дежурство, а молоденький сержант, заикаясь и давясь слюной, не сумел объяснить по телефону, что произошло. Но когда Громов сообразил, что вызывают его по адресу Елизаветы Михайловны, то и дослушивать не стал — бросился к машине.
С уборщицей они, конечно, в друзьях-приятелях не хаживали, но разве помогать нужно лишь тем, кого выделяешь?
Едва толкнув дверь, Громов понял, что дело нешуточное. С тридцатилетней выслугой он легко распознавал десятки разных запахов, которые послушными собачонками бегают вслед за смертью и метят её жертв.
Здесь стоял густой смрад разложения, такой плотный, что слезились глаза и рот наполнялся вязкой обжигающей желчью.
У входа он заметил накрытую простынёй Святину и кивнул на тихий шёпот патрульного: «Инфаркт». Зашёл в комнату, присел на корточки и внимательно осмотрел труп. Приподнял одеяло и сморщился от шибанувшего смрада. Раздувшийся живот покойника сочился гнилью, трупные пятна сплошь покрыли кожу, в бурой ране копошились черви.
Корней Семёнович сбежал на улицу и первым делом задымил. Крепкий табак ударил в нос и хоть немного отбил миазмы мертвечины. Рядом дышал воздухом криминалист, имени его Громов не помнил.
— Что скажешь?
Тот пожевал сигарету и, сплюнув, ответил:
— У старухи инфаркт, тут без сомнений. Молодая в истерике бьётся, вызвали психиатричку — думаю, их клиент. Мужик гниёт не меньше месяца, плюс-минус неделя. Причина смерти — скорее всего, проникающее ножевое в брюшной полости, но точнее скажу после вскрытия. А какого лешего он валяется на диване, а не в могиле — тут мне пояснить нечего.
— Это её сын, — сказал Корней Семёнович скорее себе, чем криминалисту. — Любила она его без памяти. Так любила, что в гибель своего Славочки поверить не смогла и выдумала ему другую жизнь, загробную. Про развод, про болезнь, про переезд к любящей матери…
— Ага, тронулась старуха, — кивнул криминалист. — Оно и понятно, если заглянуть в волшебный чемоданчик. Там, между прочим, куча снимков — и живых ещё девчонок, только связанных, и сожжённых, и, так сказать, в процессе. Если бы не случай в Зареченском парке, я бы сказал, что мы нашли маньяка. А теперь хрен его знает. Впрочем, не моего ума дело; это вам, следствию, здешнее дерьмище разгребать лопатами.
Громов постоял ещё чуть.
Для него, в отличие от болтливого криминалиста, дело представлялось очевидным и без знакомства с чемоданом.
Вячеслав Святин мёртв уже месяц, и это самое надёжное алиби. В Зареченском парке он не был, а в остальном — эксперты найдут, кто и как снимал.
Елизавета Михайловна Святина, божий одуванчик и просто хороший человек, на роль убийцы никак не подходит. Невестка её нелюбимая, Анна Токарева, при виде обычного инфаркта умом поехала. Где уж ей молотками головы мозжить? Отныне её дом — психушка, комнаты с мягкими стенами, приглушённый свет и экран телевизора за мелкой решёткой.
Выходит, в городе новый маньяк. Это очевидно. А значит, начальство с него не слезет и шансов спокойно дотянуть до пенсии попросту нет.
«А может, — с отчаянной злостью подумал Громов, — нет никакого маньяка? Может, вот эта самая психическая и есть убийца? Михайловну, святую женщину, довела до инфаркта — и в кусты, прикрылась жёлтым билетом? А вот хрен тебе, выкуси! Мы ещё поищем справедливости!»
Пока эта стерва будет в психушке, он сошьёт бронебойное дело. Плевать, куда покажут доказательства, важно, как их оценить, как подогнать бумажку к бумажке, листок к листку, слово к слову...
А после — на заслуженную пенсию!
Вспомнилось вдруг, как Святина говорила о внуке. По всему выходит, что пацан останется совсем без родителей. Жалко его. Надо же такому случиться, чтобы в один день и папаша, и мамаша, и даже бабка…
«А начну я, пожалуй, с установления связей между той наркоманской пигалицей и гражданкой Анной Токаревой, — подумал Корней Иванович, довольно щурясь на солнышко. — Быть такого не может, чтобы не отыскались бдительные товарищи и не дали показания. Быстрое раскрытие — это очень хорошо».
За него ведь и очередное звание могут дать, и к пенсии прибавку.
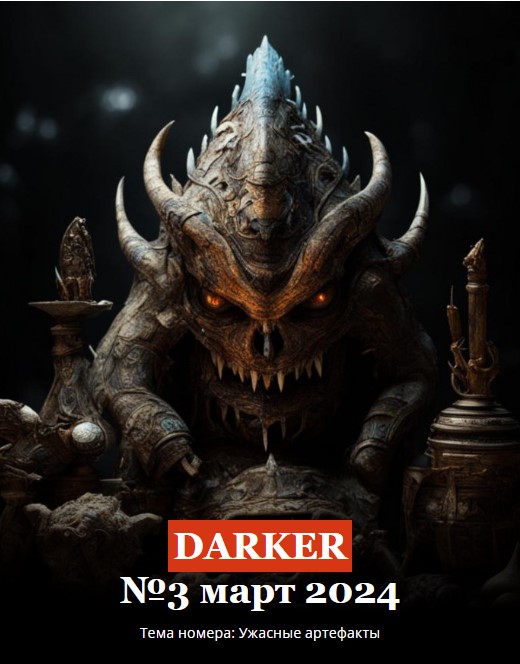


1 Аноним 18-11-2023 17:09
Грустно и несправедливо. И персонажи живо прописаны.