Вообще я, наверное, люблю дождь. Только не такую гадкую морось, как сейчас, когда на лужах нет даже следов от капель, а капюшон надевать приходится. При этом на стеклах очков оседают миллионы мелких капелек влаги, сверкающих в свете фонарей или автомобильных фар. Это, пожалуй, красиво. Но не тогда, когда опаздываешь. Я вообще не люблю опаздывать в школу. Точнее, наоборот — люблю приходить пораньше. Уроки начинаются в 8:20, но мне нравится приходить в 7:40. Почему? Ха! Если вам когда-нибудь приходилось бывать в пустом и темном здании, то вы понимаете, почему. А если у вас есть такой же медальон, как у меня, то тем более! В виде сердечка, закрывающийся на крохотный замочек. И с зеленым слоистым камнем. Кажется, он называется «кошачий глаз»… Короче, я хочу сказать, что такие медальоны — отличная вещь. И когда, приходя в школу за сорок минут до начала уроков, поднимаешься на любой этаж выше первого (где еще не горит свет, где еще со вчерашнего вечера вообще никого не было) и садишься на скамейку в коридоре, приходит время воспользоваться медальоном. Для этого нужно открыть его, затем аккуратно сложить маленькие створки вместе, но так, чтобы они не закрывались, а только касались друг друга.
Вдох.
Задержать дыхание.
А потом — защелкнуть замочек. В этот самый миг и происходит то, ради чего стоит приходить пораньше. Волшебство. Тоненький, серебристо-звонкий щелчок разносится в обе стороны пустого и темного этажа. Это длится всего мгновение, но за это время я успеваю расслышать, как восхитительный звук достигает обоих концов коридора. И этот звук, получается, издаю я сама. Это я нарушаю царящую здесь тишину. Страшное, разрушительное волшебство… Но никакого другого волшебства в этой школе нет и быть не может.
А сегодня не будет и этого. Уже 8:08, а впереди еще половина пути. Не нужно было так долго крутиться перед зеркалом. Тем более, сколько ни крутись, результат всегда один и тот же: то, что дома выглядит хорошо, при выходе на улицу становится тесным, некрасивым, неподходящим. Странное дело, но так оно и есть. Вот и сейчас юбка из плотной ткани слишком сильно стягивает бедра, при каждом шаге поднимаясь все выше и выше, так что ее то и дело приходится одергивать. Ремень тоже ничуть не помогает, а, наоборот, лишь сбивается в сторону. Сапоги под сужающимся подолом юбки кажутся гигантскими уродливыми лыжами, и только рюкзак, закинутый на одно плечо, выглядит вполне прилично (впрочем, как и любой обособленный предмет, не имеющий непосредственного отношения к моему телу). Надо же было так одеться! Страшно даже представить, что я увижу, если посмотрю в школьное зеркало. С другой стороны, тринадцатилетняя девочка с весом семьдесят пять килограмм при росте сто шестьдесят один сантиметр в любом случае будет выглядеть удручающе, что на нее (то есть на меня) ни надень.
Куртка тоже задирается выше, чем мне хотелось бы. Все дело в плеере Мумы, который я присобачила на пояс слева. Мума — это моя новая подруга. В прошлом году она перешла в нашу школу. Вообще-то ее зовут Яна, как и меня, но прозвище, по-моему, круче. Мне тоже всегда хотелось иметь прозвище — естественно, не какую-нибудь оскорбительную хрень (этого и так хватает), а нормальное. Как у Мумы.
Одергивая юбку и поправляя то плеер, то ремень, я перешагиваю через серые рукава пожарных шлангов. Выходит, старая поликлиника опять горела. Дальше — через перекресток, мимо магазинов и парикмахерской, и вот передо мной уже возвышается школа, отделенная от тротуара деревьями, чинно стоящими в один ряд. Глядя на эту строгую громаду с высокими дверями и большими (а на третьем и четвертом этажах — и вовсе огромными!) окнами, со стенами, облицованными коричневато-бежевыми плитами, похожими на каменную кладку, нельзя и предположить, как все выглядит сзади. Там, на задней стороне, никаких плит нет. Их сменяет грязная желтовато-розовая (какого-то блевотного цвета) штукатурка, которая во внутреннем дворике П-образного здания и вовсе отваливается кусками. Это и есть настоящее лицо этого гнилого места. А фасад обманчив.
Поравнявшись с деревьями, я выключаю плеер и убираю его в рюкзак. Вот так в открытую входить в школу с какой-то вещью, пусть даже и с дешевым кассетником — дело довольно рисковое, особенно в моем случае.
Поднимаюсь на высокое крыльцо без перил и вместе с толпой других школьников проталкиваюсь внутрь. Впереди — еще одна лестница, ведущая в холл, ширина которого меньше, чем расстояние от пола до потолка. Не потому, что он тесный, а потому, что потолки очень высокие. Это, пожалуй, красиво. Четыре колонны, которые делят холл в длину пополам — тоже красивые. Между ними поставлены деревянные решетки с просветами в форме ромбиков, а за ними — гардероб. И, кстати, на первом этаже вообще много чего есть: канцелярия, медкабинет и кабинет психолога, кабинет труда для мальчиков, кабинет изо и черчения, столовая, библиотека…
Вот она-то — библиотека — как раз и есть самое лучшее место во всей школе! В прошлом году я нашла там очень клевые книги. Кто бы мог подумать, что в детской библиотеке держат такую занятную дрянь? А они там были. Стояли, задвинутые в самый дальний угол, на нижней полке стеллажа, за которым начинается огороженная решеткой лестница в библиотечный подвал. Вообще-то я знаю, что там, внизу, ничего нет, кроме кучи старых учебников, но мне нравится думать, что подвал забит всяким таким… типа этих двух книжек. Двух тоненьких книжек в задрипанных картонных обложках с невразумительными рассказами и статьями и — вот оно! — обалденными картинками. Монстры… Уроды… Демоны, оборотни, черви, мутанты, пришельцы… Тонны патологически извитых мышц, склизкой чешуи и бородавчатой кожи. Сотни светящихся злобой (или ничем) глаз. И это было круто. Жаль, что настоящие уроды, окружающие меня в реальном мире, не могут вживую увидеть ничего такого, потому что тогда они бы, наконец, как следует испугались — вот что я подумала. Подумала: жаль, что нельзя натравить таких чудищ на них.
Точно. Нельзя. Такая фигня бывает только в кино.
Время 8:15. В холле много скамеек, но сейчас все они, ясное дело, заняты. Вокруг — обычный утренний хаос: все торопятся, толкаются, переодеваются, кричат, задирают друг друга. За этим интересно наблюдать со стороны, а вот влиться в этот поток, стать его частью… Но сейчас выбора нет.
Стянув с себя куртку, я закидываю рюкзак на плечо и, придерживая его одной рукой (оставлять его без присмотра даже за собственной спиной небезопасно), вклиниваюсь в очередь в гардероб. В его решетчатых стенах есть два идеально квадратных проема. Формально один из них для мелких, а другой — для старших, но в такие минуты, как эта, все формальности опускаются. К тому же, поскольку теперь я в восьмом классе, в конец очереди можно не становиться. Мои габариты (во всех смыслах) позволяют мне почти сразу протолкаться к окошку. Возле него — самый ад. Больше десятка тел разного пола и роста, а также рюкзаки, сумки и пакеты сплетаются, сплющиваются, спрессовываются в единую массу, пыхтящую, ворчащую, кричащую и тянущую руки с куртками, которые елозят по головам и лицам, чтобы обменять одежду на заветную металлическую пластинку с номером. Если куртка или пакет, или еще что-нибудь вдруг упадет здесь — пиши пропало. В лучшем случае — выпинают за пределы очереди. Если опустишь руку ниже головы — прижмут, и больно. Если, уже сдав одежду, застрянешь или зацепишься за кого-то — скорее всего, толкнут или обматерят.
Сегодня мне повезло: в толпе нет ни одного одноклассника, да и вообще — я в длинной юбке. Это значит, что никто не станет щупать мою задницу и не будет пытаться задирать подол. Потому что однажды — не помню точно, когда именно — для каждой девчонки здесь наступает момент, когда с ней начинают так обращаться. Может, так оно и должно быть. Не знаю. Но в толкучке у гардероба постоять за себя сложнее.
Наконец, отделавшись от куртки, я прорываюсь назад и, вывалившись на более-менее свободное пространство, вижу впереди знакомый сиреневый рюкзак.
— Эй, Мума! — кричу я. — Погоди! Мума!
Обернувшись, она останавливается и ждет меня, такая маленькая и хрупкая (в отличие от меня) в своем персиковом свитере и темно-синем джинсовом комбинезоне.
— Привет! — говорю я.
— Привет, — говорит она. Чуть устало. Она почти всегда так говорит — слабым и утомленным голоском, который как нельзя лучше сочетается с ее круглым, серовато-смуглым личиком с наметившимися мешками под глазами. Правда, из общего облика как-то выпадают легкомысленно вздернутый нос и живые, с потаенными смешинками карие глаза, но, скорее всего, со временем они перестанут быть такими. Изменятся. Потому что справа на ее шее…
Так вот, с правой стороны к ее плечу, шее и половине лица прилепился он. Слизень Скорбный. Его желтовато-белое, бесформенное тело плотно сидит на своем месте. По краям он вроде как цепляется за Муму короткими и толстыми выростами с мелкими коготками, но я почему-то уверена, что изнутри его мягкое брюхо в буквальном смысле приклеено к ее коже чем-то тягучим и липким. Таким же тягучим, как тоска, звучащая в голосе Мумы.
Мы молча поднимаемся на второй этаж. Мума идет впереди, и я могу тупо рассматривать ее Слизня, ни о чем не думая. Он тоже смотрит на меня. Поворачивает свою округлую, бледную голову, до этого покоившуюся в волосах Мумы, и смотрит. Его глаза — большие, темные, слезящиеся — в обрамлении отвисших кожных складок выражают бессильную печаль слабого и податливого, вечно угнетаемого существа. Этот скорбный взгляд настолько человечен, что кожаные фестоны на его обманчиво-квелом теле и торчащие в разные стороны щетинки и волоски уже не кажутся такими отвратительными. Впрочем, я с самого начала и не испытывала к ним особого отвращения. В этой школе есть вещи и похуже.
На втором этаже сворачиваем влево. Навстречу нам с привычным топотом старушечьих туфель, нелепо сидящих на тоненьких ножках, движется Оксана Леонидовна. Но обычно все называют ее просто Леонидовна. Или Оксанка. Она преподает у нас алгебру и геометрию. И, похоже, сегодня она снова опоздала. Наверное, уже открыла класс и теперь идет в учительскую. Полы расстегнутого пальто развеваются, жиденькие блекло-русые волосы подпрыгивают на каждом шагу, маленькая ладонь стискивает ручку кожаной сумки — тяжелой и какой-то квадратной. Леонидовна никогда не оставляет ее без присмотра с тех пор, как кто-то из наших запихал в эту сумку бутылку дешевого пива так, чтобы горлышко торчало наружу. Как раз перед приходом то ли какой-то комиссии, то ли просто директрисы. Правда, никакая комиссия так и не появилась. Но скандал все равно был.
Кивнув в ответ на наше бурчащее «здрассьте», Леонидовна сразу отвела взгляд. Мимолетная вымученная улыбка тут же исчезла с ее лица, и оно вновь стало похожим на прохладный камень. Веснушчатый мрамор. Вообще-то ей, кажется, всего двадцать шесть. И у нее есть мелкий сын. Учится здесь во втором классе. Они живут в другом районе и поэтому каждое утро ездят на автобусе. Вот и все, что я о ней знаю.
И да: на ее плечах, как меховой воротник, разлегся Слизень Скорбный. Еще один. Почти такой же, как у Мумы. Разве что глаза его глядят еще более пронзительно… Хотя, возможно, все дело в воспаленных, вывернутых нижних веках. Он тоже глядит мне вслед. Потому что я его вижу. И он знает это.
Мы входим в класс. Все как обычно: шум, смех, крики, ругань, какая-то беготня… Стоило мне только переступить порог, как над самым ухом раздался отвратительный ослиный крик — нечто среднее между звуками «и» и «э», произносимыми одновременно, протяжно и с издевкой.
— Ииииииииэээ! Сивцова! — это орал Семёнов. Ослиный клич — его фирменное изобретение.
— Ииииииии! — гнусным, срывающимся голоском вторил ему Васильков, его вечный подпевала, носящий кличку Утюг.
На теле Семёнова, неизменно носящего темно-серый «адидасовский» спортивный костюм, всего два ярких пятна: кислотно-зеленые полоски на кроссовках и алая, мясисто бугрящаяся личинка, облепившая его затылок и часть шеи. Постоянно извивающееся, сползающее то на одну, то на другую сторону тело, на котором тут и там вздуваются прозрачные пузырьки с буроватым гноем, оканчивается тупой мордой с хищно суженными, налитыми кровью глазками над совершенно беззубым ртом. Но зубы этой твари и не нужны. Это — Слизень Изрыгающий. В зависимости от того, чем занят человек, приютивший его, он либо плюется, либо целыми струями извергает потоки гнилостной жижи. Например, каждый такой ослиный крик сопровождается плевком, объем которого, как я подозреваю, соотносится со степенью удовольствия, получаемого Семёновым от издевательств.
Другое дело — Слизень Мокнущий, оплетающий шею Утюга и свисающий с нее наподобие ожерелья. С виду он очень похож на Изрыгающего, но рта у него нет, глаза больше, а среди бугров и пузырей на его теле топорщатся короткие бахромки, окружающие многочисленные мелкие отверстия. Позавчера, когда Утюг сбил с ног пятиклассника, не отдававшего ему свой портфель, эти отверстия были туго сомкнуты, как крошечные анусы, и весь Слизень конвульсивно трясся, похожий на хвост гремучей змеи. Но на прошлой неделе, когда другие парни из нашего класса отпинали Утюга, а потом прижали его скамейкой к полу, Слизень сдавленно верещал, как человек с кляпом во рту, и изо всех дыр на его теле сочилась желтоватая слизь.
— Всем привет! — голосом «боже-как-я-устала» произносит Мума, входя следом за мной. Она единственная в этом классе (а может, и во всей школе), кто здоровается со всеми утром. Может, поэтому Семёнов орет ей в ухо не так громко?
— Привет, Янка, — говорит он, а потом орет.
Может, если бы я зашла в класс после нее, в мое ухо он тоже кричал бы тише? Хотя вряд ли.
Рассаживаемся по местам. Мы сидим на крайнем ряду у окна. Вообще-то зимой здесь довольно холодно, потому что побитые два года назад окна так до конца и не заменили: те, что с дырками, поменяли, а просто треснувшие оставили. Но в любом случае это в сто раз лучше, чем сидеть на среднем ряду, где тебя со всех сторон толкают, щиплют, оплевывают (не Слизни, а сами люди), обкидывают бумажками, жвачками, дергают за волосы, отбирают вещи, обзывают и так далее. И лучше, чем сидеть на ряду у стены, где на переменах любят собираться те, кто делает все перечисленное.
Заходит Леонидовна. Едва она начинает выводить что-то на доске, раздается короткий стук в дверь и в класс заглядывает Клава. То есть Алина Петрова. Петрушка. Она перешла к нам в прошлом году, как и Мума. Высокая, стройная, с красивыми полными губами и аккуратной стрижкой. Вообще-то она похожа на тех девчонок, которые курят за школой и в туалете, которые обзывают и пугают мелких и которых парни не бьют, а только щупают. Но почему-то она с самого начала стала тусоваться с отстойницами — то есть со мной, Мумой и Илоной. Илона — тоже моя подруга, хотя в последнее время она как-то наладила контакт с остальным зверьем и даже стала похожа на них. Если честно, я не знаю, что на самом деле отстойнее: быть уродищем, которое все пинают, или… Пожалуй, я просто хочу, чтобы лично от меня все отстали.
— Здравствуйте, Оксана Леонидовна, извините за опоздание, — скороговоркой произносит Клава, и я снова поражаюсь, какой же странный у нее голос: то хриплый, то звонкий, и все это в одном предложении! Как ни крути, она красивая. И знаете что? У нее нет Слизня.
Она входит и садится на свое место. На ужасном ряду у стены. Слышатся какие-то смешки, возня. Кто-то щипает ее или тыкает ручкой, или еще что-то. Клава громко ойкает, поворачивается к обидчику, укоризненно называет его по фамилии и спокойно отворачивается обратно. Она все-таки дура. Вокруг нее — злобные шакалы, которые не раз уже доводили ее до слез, а она хочет отделаться добродушным замечанием. Как будто до сих пор не поняла, что если они решили унизить ее, то непременно сделают это, рано или поздно. Весь день еще впереди.
Дальше — два урока русского. Тоже ничего особенного. Пишем всякую ерунду. На выпирающем животе училки висит бледно-розовый червь. Почти как Слизень Скорбный, только немного другой. Пока что не знаю, как его назвать. Он появился недавно. Понятия не имею, откуда они вообще берутся, но одно знаю точно: эта школа никого не отпускает просто так.
А вам, наверное, интересно, почему я вообще их вижу? Я и сама толком не знаю. Может, это какая-то магия.
В прошлом году, кстати, мне приснился клевый сон. Будто я иду по лесу и посреди него вижу поляну, на которой стоит старый деревянный дом, весь во мху и лишайниках, немного жуткий. Я захожу внутрь и вдруг оказываюсь в школьной библиотеке. И в воздухе передо мной висит человеческий палец. Срань господня, отрубленный летающий человеческий палец! Но во сне это почему-то не кажется странным. Палец летит в сторону и указывает на то место, где, как мне кажется, лежит особая книга, позволяющая увидеть еще больше, чем те две книжки, которые я нашла. Может даже увидеть в реальности. В том-то все и дело: этот сон приснился мне, потому что я хотела сделать как-нибудь так, чтобы все те монстры появились и набросились на моих одноклассников. Я даже ходила в гости к Илоне и смотрела у нее всякие книги, типа магические, но там ничего подходящего не нашлось. Я даже сходила снова в нашу библиотеку, посмотрела в том месте, куда указывал палец из сна, но там тоже ничего такого не было. Так что, пожалуй, все это фигня — и сон, и магия. А Слизни появились позже.
На перемене действительно взялись за Клаву. Я же говорила. Сначала обзывали ее, потом утащили ее пенал и пинали по всему коридору. А когда она попыталась отобрать его, Семёнов засунул все ее вещи, оставшиеся на парте, в мусорное ведро. Впрочем, могло быть и хуже — уж я-то знаю.
После русского — география. Кабинет пока что занят предыдущим классом, и мы с Мумой стоим возле окна, прислонившись к подоконнику. Свободных скамеек для таких, как мы, не бывает.
В этот момент к нам подходит Карина.
Неспешной, переваливающейся походкой. В неизменной спортивной куртке с закатанными рукавами, сидящей в обтяжку на объемистых груди и животе. В неизменных джинсах-стрейч, облепивших ее неожиданно тонкие для такого тела ноги. С неизменной наглой улыбочкой на лунообразном лице. И с прилизанным каре, выкрашенным в темно-фиолетовый цвет. Это уже что-то новенькое.
— Привет, Сивцова, — говорит она, подходя вплотную ко мне. Сверлит меня взглядом. Ищет, к чему придраться. Парень может просто дать «леща» или обозвать, но девчонки так не делают. Этой швали нужно обязательно зайти издалека, сделать вид, что есть причина для такого скотского поведения.
— Привет, — отвечаю я, и все внутри замирает. Я не знаю, что именно она задумала. Может быть, ничего. Но я не хочу даже просто находиться с ней в одном помещении. Парня можно ударить в ответ или обматерить, а с девчонками у меня так не получается. К тому же она… Она не просто сильнее меня. Она отвратительна сама по себе. И она ненавидит меня гораздо сильнее, чем я ее.
Не могу сказать, когда именно она стала для меня такой, какой я вижу ее теперь, но зато точно знаю, в какой день все началось для нее.
Это произошло, когда мы были в четвертом классе. Шли какие-то дебильные вечерние посиделки. Продленка, кажется. Мы сидели за партами по одному и делали уроки. Карина сидела на соседнем ряду, справа от меня. Не знаю, почему я вдруг на нее посмотрела. Я увидела, как она приложила ладони ко рту, и потом сунула их под парту, будто хотела взять что-то с полочки под столешницей. Но ничего не взяла. Вместо этого она наклонилась и снова подставила ко рту ладони. Она блевала. Сблевывала себе в руки розовую массу, похожую на полупереваренный винегрет, и складывала на полку под партой, по пути роняя куски себе на колени и на пол. Просто блевала себе в ладони. Снова. И снова. Я никак не могла понять, что вообще происходит, почему она никому не сказала, что ей плохо, почему не вышла в туалет… Блин, да у меня просто не укладывалось в голове, с фига ли она невозмутимо сидит и собирает свою блевотину! И тут она взглянула на меня. Посмотрела и как-то жалко улыбнулась. А потом сблевала еще. В ладони, подставленные лодочкой ко рту. Думаю, мое лицо просто перекосило от отвращения.
— О, у тебя новая прическа, — это Мума спасает положение. Как же в этот миг я люблю ее усталый голосок!
— И волосы покрашены, — неловко подхватываю я. — Красивый цвет. Тебе идет.
И улыбаюсь. Эта жаба пялится на меня своими бледно-серыми глазами навыкате, и я продолжаю улыбаться. Дверь в кабинет географии открывается, в коридор с шумом вываливаются какие-то пятиклассники, а я по-прежнему улыбаюсь.
На ее шее — Слизень Сдавливающий. Бледно-коричневый, изборожденный буграми мышц с оплетающими их венами. Если бы не Мума, он охватил бы и мою шею. Его мерзкие выпученные глазки уже поблескивали напротив моего лица вместе с глазами Карины, как две капли воды похожими на них.
Ничего не ответив, Карина уходит, чтобы взять свои вещи и зайти в класс. Мы тоже подхватываем рюкзаки.
— Стойте в коридоре! Дайте кабинету проветриться! — раздается, кажется, над самым ухом отвратительный хриплый голос — не такой высокий, чтобы назвать его визгливым, но достаточно резкий, чтобы впиваться в мозг, как сверло.
Это Айна Тойвовна, географичка. Вообще-то она немного похожа на Леонидовну. И мелкий сын у нее тоже есть. Жаль его. Слизень Визжащий на плоской, сухой груди его матери похож на Скорбного, но рот у него другой: тремя линиями он разрезает бледную кожу под узкими, полными злобной тоски глазками, и в минуты активности пасть, распадаясь на три отдельных лепестка, распахивается и обнажает свое влажное нутро с бьющимся посередине пучком нитевидных щупалец. В это время обезьянье личико Тойвовны собирается тонкими пергаментными морщинами, а из ее некрасиво разинутого рта, обведенного розовой помадой, вылетает тот самый срывающийся, с хрипотцой, крик. Такой же неизменный, как спортивная куртка Карины. На ее уроках обычно никто ничего не делает. То есть как и всегда, конечно, но на географии — особенно. Возможно, дело в ее рвущем мозг истеричном крике. А возможно, в самом кабинете, где абсолютно все, кроме доски и учительского стола, окрашено в цвет безумия: желтые парты, желтые стулья, желтые шкафы и желтые стены…
В прошлом году… Блин, когда начинаешь вспоминать, кажется, что в том году дофига всего случилось! Хотя на самом деле это не так — происходило в основном то же, что и сейчас. Так вот, в прошлом году на перемене перед географией парни выбросили из окна несколько стульев. Обычно они просто опрокидывали или сваливали в кучу мебель, но в тот раз решили выпендриться. Их почти сразу спалили: какая-то училка, сидевшая в классе этажом ниже, заметила стулья, пролетающие за окном. Даже смешно, если честно…
И все-таки дело не только в желтом цвете. Я думаю, все дело в Слизнях. В монстрах, паразитирующих на телах этих уродливых зверенышей. Слизень Изрыгающий. Слизень Мокнущий. Слизень Сдавливающий. Слизень Рычащий. Слизень Клацающий. Слизень Какой-Угодно.
Я впервые увидела их прошлой зимой. Была перемена между двумя геометриями. Все торчали в коридоре. Тогда с нами учился Пашка по кличке Тапок — плотный мальчик небольшого роста, симпатичный и не совсем подонок. Вообще-то Тапком звали его только мы с Илоной. Не помню, почему. Это казалось забавным. Но только не ему. Отстойницы не имеют права придумывать кому бы то ни было клички, и он (разумеется, причисляющий себя к сильнейшей части класса) не хотел с этим смириться. Может быть, именно поэтому он и стал тогда приставать ко мне.
Я стояла одна у окна, и он начал меня доставать. Обзывал. Со скамейки напротив скалились рожи остальных одноклассников. Кричали, подзадоривали. Потому что я читала (и до сих пор читаю) отстойные книги про эльфов и волшебников. Потому что я была (и до сих пор есть) такая жирная. Потому что я чаще всего одевалась (и до сих пор одеваюсь) не по моде. Потому что я с четвертого класса носила (и до сих пор ношу) очки. Любого из этих пунктов достаточно, чтобы застебать отстойницу. И в тот день Пашка-Тапок бешеной обезьяной скакал вокруг меня, наслаждаясь собственным успехом в глазах прочего зверья. Скакал под одобрительные вопли этих уродов. И вдруг он подскочил вплотную ко мне и схватил меня за грудь. Было больно, но дело не только в этом. Он унижал меня, выставлял уродиной и посмешищем, но при этом попытался облапать, будто я — одна из тех, других девчонок. Не знаю, понимаете ли вы, о чем я.
Я схватила его за ворот рубашки — серой в мелкую полосочку, как сейчас помню — и оттолкнула от себя так, что он шлепнулся на задницу посреди коридора. А потом начала орать:
— Отвали от меня! Никогда не подходи ко мне больше, гребаный Тапок! Думаешь, ты крутой?! Думаешь, можешь меня оскорблять?! Да ты для них такой же урод, как я для тебя! Ты тупой, мелкий, жирный Тапок, и больше никто! Ты ни одной девчонке никогда не понравишься! Ты дебил, кретин, придурок! Это над тобой все остальные смеются! Не подходи ко мне!
Пару секунд в коридоре было тихо. Я чувствовала себя полной дурой. Пашка поднялся с пола и, кажется, хотел подойти и ударить меня, но я орала так, что он, наверное, передумал. Но вот я замолчала, и…
— Иииииииииииииииэээ! — это заблеял Семёнов. — Мелкий жирный Тапок!
Они ржали и обзывали его, как он только что обзывал меня. Похоже, это была победа, ведь я оказалась права, но… Отстойницей-то я быть все равно не перестала. А вот свинские рожи постепенно дополнились Слизнями. Правда, тогда Слизни были не такими крупными, как сейчас.
Это место действительно никого не отпускает. То, что на миг показалось победой, на самом деле было очередным доказательством того, в какой же вонючий ад все мы погружены. Подняться выше и, тем более, выбраться наружу — невозможно. Можно лишь увязнуть еще сильнее, еще глубже. Обзавестись новыми демонами. В реальности ад совсем не такой, как о нем пишут. Боли от пыток почти нет. Хуже всего — постоянное чувство омерзения. Ад — это просто гигантский калоотсойник…
Мума ушла, потому что ей нужно к врачу, и доживать этот день мне предстоит в одиночестве. Ну или с Клавой.
Следующий урок — ОБЖ. С Антоном Ивановичем. Он полный мудак. Каждый год рассказывает один и тот же тупой анекдот про караван в пустыне и строит дебильные гримасы, если случайно задумаешься, глядя на него. А еще мы занимаемся в подвале. По сравнению с тем, что там обычно творится, географию с раздолбанными стульями можно даже не считать за анархию.
Сначала мы ждем учителя: полкласса толкается на лестнице внизу, где от труб веет вонючим теплом, а остальные стоят на крыльце снаружи. Всегда. В любую погоду. До сих пор не знаю, где хуже. Хотя нет. Хуже всего — в самом «классе». Темное, обшитое вагонкой помещение тесно заставлено все теми же желтыми партами. Под самым потолком — закрашенное оконце с широким подоконником. Учитель спускается вниз, отпирает дверь и снова уходит. Самое главное теперь — скорее занять место поукромнее. Потому что потом свет выключают. И начинается тот самый ад. Топот. Грохот. Гогот. Мат. Крики. Парни носятся в темноте по помещению, запрыгивая на все, что попадается по пути: на стулья, столы, даже на подоконники. Тетради, сумки, руки или целые тела — без разницы, что это, если оно уже оказалось под ногами. Вся эта беготня сопровождается плевками — либо просто слюной, либо пережеванной бумагой или булкой из столовой.
И на фоне всех остальных звуков — их голоса. Как бы громко ни орал и ни сходил с ума наш зверинец, я все равно слышу Слизней. Окружающая темнота полнится какофонией из стрекота, визга, шипения, рычания… Полнится движением их тел, а не человеческих. Полнится блеском их глаз. Я закрываю лицо ладонями. Может быть, это мы — лишь фон для них?
Сегодня Антон Иванович почти не опаздывает. Кто-то стоит на стреме, и вскоре свет снова загорается. Пока учитель спускается вниз, к нам, Семёнов и Утюг обсыпают Клаву всякой дрянью. Утюг подскакивает сбоку и прижимает ее к парте, а Семёнов оттягивает сзади ее джинсы и сыплет в образовавшееся пространство смесь из мелких обрывков бумаги, очистков от карандаша и катышков от ластика. С другими девчонками так не получилось бы: пояса их джинсов расположены настолько низко, что когда они садятся, ягодицы вываливаются наружу на добрую треть — поэтому обычно в складку между ними просто засовывают карандаш или ручку.
Клава вскрикивает и вырывается из рук Утюга.
— Отвяньте от меня, придурки! — кричит она и неловким движением толкает их парту — Не прикасайтесь ко мне больше! — она садится на свое место, приложив ладонь ко лбу.
— Тишина в классе! — орет обэжэшник, и урок начинается.
Через минуту Семёнов, перегнувшись через парту, наклоняется к Клаве. Он еще не открыл рот, а его Слизень уже оплевал ее.
— Алина, прости меня, пожалуйста, — обманчиво-серьезным тоном произносит он. — Хорошо? Только мусор из трусов вытряхни, ладно?
Резко обернувшись, она отталкивает Семёнова и выбегает из класса. И, кажется, всхлипывает на ходу.
На перемене перед уроком истории все начинается снова. Только на этот раз ее достает Сашка Бетехтин. Он не трогает ее — только обзывается, смеется, несет всякую хрень. На его плече — огромный полип серого цвета с россыпью мелких блестящих глазок и несколькими неровными складками там, где мог бы быть рот. Слизень Хрюкающий. Я уже привыкла к отвратным звукам, которые он издает, но не могу привыкнуть к самому факту того, что он вообще есть. Что он сидит именно на Сашке.
В шестом классе мы с Сашкой полгода сидели за одной партой. Часто смеялись, травили анекдоты, рисовали всякую фигню на столах и в тетрадях. И я вроде даже не была такой отстойницей, как сейчас. И я знаю, что он тоже хороший парень. Что он был хорошим.
— Ты достал меня, Бетехтин! — орет Клава. Она сидит за партой, скрестив на груди руки, и явно не хочет отвечать на все это дерьмо. В классе почти никого нет, и никому, кроме Бетехтина, нет до нее никакого дела.
— Че ты ко мне лезешь?! — орет она. — Ты мне не нравишься! Так что отвянь! Отвали! Все!
Это была ошибка. Конечно, часто шутят, что если парень постоянно цепляется к девчонке, то это означает сами знаете что, но… Может, это и так. В младшей школе. Или просто в другой школе. Где нет этого зверья. Где нет Слизней.
— Ты дура, Петрова! — Сашка наклоняется к ней через парту. — Кому ты вообще можешь нравиться? — он выпячивает губы и шамкает ими, изображая ее. — Над тобой все стебутся, потому что ты просто овца тупая!
С этими словами он слегка хлопает ее по щеке. Даже не больно, наверное.
Не говоря ни слова, она отталкивает его руку и вскакивает с места. Хватает стул. Кричит, чтобы Сашка отвалил от нее. Кричит, что ненавидит его. Замахивается стулом.
Перемена еще не закончилась, но в класс заходит историчка. Она что-то спрашивает — удивленно, возмущенно и громко, но никто не отвечает. Сашка уворачивается от стула, а Клава, как попало швырнув его на пол, выходит из класса.
— Я пойду к директору! — бросает она.
И в этот момент мне становится так жаль ее… Ведь она ничегошеньки не знает! Ни про директрису, ни вообще про учителей этой гребаной школы. Прошлой весной я тоже хотела добиться справедливости таким способом. Ну, не совсем таким, но типа того. Может, знаете — иногда тебя просто пинают, а иногда прикладывают ногу и тупо мажут грязной подошвой по одежде. Это был Утюг. И в тот день он был не первым, кто доставал меня. Я сказала, что пожалуюсь учителям, что они позвонят его матери, и что она сама будет отстирывать мою одежду. Я тогда правда думала, что такое возможно. Что какое-то влияние на эту школу — изнутри или извне — возможно. Я подошла к учительской, открыла дверь и…
Там все буквально кишело ими. Слизни Скорбные и Похожие На Скорбных. Слизень Визжащий. Жующий. Дрожащий. Слизни Еще-Какие-то. И… Срань господня, даже Сдавливающий и Изрыгающий!
И Петрушка еще надеется на помощь этих?!
В тот же момент в дверях класса появляется Карина. Она полностью загораживает собой дверной проем. Она уже готовит очередную омерзительную ухмылочку, уже выпячивает вперед грудь и пошире расправляет плечи, чтобы не дать отстойнице пройти, на Клава словно не замечает этого.
— Дай пройти, Карина, — раздраженно произносит она и… отталкивает Карину.
Все взгляды обращены в ту сторону. Сашкин, училкин, мой, чей-то еще. Скажу вам честно: в этот момент всем насрать на Карину. Мы смотрим на Клаву. На Девчонку, Бросающуюся Стульями. И то — недолго, потому что в этой школе всем вообще на все насрать. Но я догадываюсь, что Карина этого не понимает. Догадываюсь, что именно она чувствует под этими взглядами. Мне это очень хорошо знакомо. Только вот у меня, в отличие от нее, нет возможности отплатить обидчику.
Последний урок — английский. Дурацкий английский, для которого вечно не хватает кабинетов. Так и сегодня. Поэтому мы снова отправляемся в подвал, но на этот раз в другой. Вход в него расположен внутри школы, под лестницей в правом крыле. Здесь тоже тепло и немного воняет, но не так сильно, как на ОБЖ. Уходящий вдаль коридор узкий, со множеством дверей и ответвлений: в каморку электрика и слесаря, в кладовку школьного театра, в хранилище лыж и прочей физкультурной байды, в Разрушенную Комнату, еще куда-то… Некоторые двери всегда закрыты. Некоторые помещения сквозные. Например, справа — квадратный проход, ведущий к двери в «класс», а оттуда можно попасть в театральную кладовку. В том проходе мы и ждем начала урока.
— Петрова, ты охренела меня толкать?
Это говорит Карина, когда входит сюда. Вообще-то сейчас она сама толкает Клаву, но мы-то с вами знаем, в чем дело.
— Охренела, спрашиваю? — повторяет громче и снова толкает.
— Что тебе от меня нужно? — устало спрашивает Клава. Честно говоря, я удивлена, что после всего она еще и на английский решила остаться.
Карина продолжает напирать. Похоже, она в самом деле не понимает, что Клава в состоянии аффекта правда могла не обратить на нее внимания. Не понимает, что кто-то может в принципе не бояться ее. Хотя последнего я тоже не понимаю.
— Дерзкая, что ли? — Карина буквально вжимает Клаву в стену своим телом. — После урока ответишь. И только попробуй свалить, поняла?
Отходит в сторону, ближе к выходу. Не представляю, что она задумала.
Тем временем парни продолжают развлекаться. Сразу трое или четверо прижимают к стене створку распахнутой металлической двери. Между стеной и дверью — Бетехтин.
— Ай! Пустите, суки!
Судя по визгливым нотам в голосе, ему больно. Может быть, даже слезы наворачиваются на глаза. Но мне почему-то не жаль его, как было жаль Клаву. Впрочем, я и не злорадствую. Все, что я чувствую — это отвращение. Раньше в такие моменты мне хотелось исчезнуть, но теперь я знаю, что это невозможно. Эта школа не отпустит меня. Не отпустит никого.
Семёнов гогочет, глядя в щель на орущего Сашку, но его Слизень почему-то перестал плеваться и рыгать. Семёнов издает свой любимый ослиный клич, а Слизень не движется. Напыжившись, огромный червь замер на его плече и… Какого хрена он вообще делает?!
Кто-то балуется с выключателем. Щелк! — и крохотное помещение освещено лишь грязной лампой из основного коридора. Щелк! — и в проходе опять светло.
Судорожно дернувшись пару раз, Слизень Изрыгающий сползает вниз по спине Семёнова. На его плече остается белесоватый, склизко поблескивающий шарик размером с перепелиное яйцо. Блин, да он и выглядит, как яйцо!
Щелк.
Семёнов ржет и строит рожи Бетехтину.
Щелк.
Слизень шлепается на пол и ползет к двери.
Щелк.
— Так, что тут у вас происходит? Почему со светом балуемся?
Это появляется училка. Она говорит, что плохо себя чувствует, и что подвал — неподходящее место для занятий, и поэтому урока не будет.
Слизень скрывается за углом. Я знаю, что его не затопчут, но все равно волнуюсь. Боюсь не успеть за ним, но при этом не хочу попадаться на глаза одноклассникам. Медленно ковыряюсь в рюкзаке.
— Слышь, Сивцова!
Это Карина. Она, Клава и еще две девчонки по-прежнему стоят там.
— Вали отсюда!
Я беру рюкзак и выхожу в коридор. Топот и голоса остальных одноклассников доносятся уже с лестницы. Впереди что-то шевелится в дверях Разрушенной Комнаты. Впрочем, дверей там как раз и нет — только пустой проем без косяков и даже без штукатурки, ведущий в узкое помещение с голыми кирпичными стенами, заваленное строительным мусором. Там-то и скрывается Слизень.
Заходить туда нельзя. Никто специально этого не говорил, но я знаю, что если меня там увидят, то непременно наорут. Обычно я ничего такого и не делаю, но в этот раз инстинкт отстойницы не срабатывает, как никогда в жизни он не срабатывает у тех, кто выкидывает мебель с третьего этажа или подсовывает пиво училке. Я забираюсь в Разрушенную Комнату. Это глупо, но в ней всегда горит свет — тусклая лампочка включается вместе со светом в коридоре. И сейчас это очень кстати. Я вижу Слизня, протискивающегося между пластиковым ведром из-под краски и сломанными строительными козлами.
Я подбираюсь ближе. Сверху ничего не видно, так что приходится присесть и заглянуть под козлы. И там…
То, что я вижу, не идет ни в какое сравнение с гадкими картинками из тех библиотечных книг.
В нижней части стены — дыра, обрамленная торчащими кирпичами и поэтому похожая на гигантскую пасть. Свет плохо проникает туда, но и этого достаточно, чтобы разглядеть их. Слизней. Знакомых и незнакомых. Неподвижных и копошащихся. Мелких (мелких?!), как тот, который только что заполз туда, и других — размером с человека и больше…
Мне не страшно, потому что они не бросятся на меня и не сожрут. Я это точно знаю.
Мне страшно, потому что они никогда и не жрали нас. Они растут на нас. Они размножаются на нас. Источник страха и злости, источник всего говна, что день за днем наполняет эту школу — вовсе не Слизни. Они — лишь безобидные паразиты, присосавшиеся к тварям еще более отвратительным.
Поднимаясь наверх, я слышу за спиной какие-то голоса, а потом вскрик Клавы. Точно. Она ведь осталась там, с ними. Что если они… Ну, сделают что-то похуже, чем обычно? Может, мне стоит… Вернуться? Да что я вообще могу? Там ведь Карина. Что если мне тоже достанется? Может, лучше сказать кому-нибудь, что в подвале кричат? Но кому? Охраннику? Училкам? Кому в этой школе хоть до чего-то есть дело?
Подхожу к зеркалу в холле. Так и есть — просто жирная дура. И юбка эта мне не идет. На моем плече трясется синюшно-бледная гусеница размером с карликовую таксу. Слизень Дрожащий.
Я достаю из сумки номерок и иду в гардероб. Пора домой.
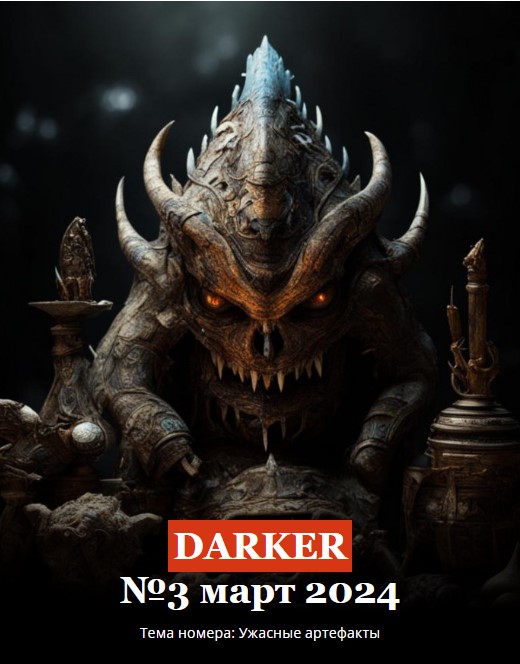


Комментариев: 0 RSS