Они походили на детей и пахли облепихой. Такой терпкий сладковатый запах с привкусом горечи. И бродили по ночам, в темноте, а их лица поблескивали, точно искрили. Я думал, это глаза или губы, влажные.
Великая бескрайняя Сахара. Солнце катилось к горизонту и уже пекло мою сгоревшую накануне шею. Пустыня похожа на застывший океан. Барханы — огромные волны, тяжелый и разрушительный девятый вал, поднявшийся многие столетия назад. Но мы едва замечаем их движение, мы живем слишком быстро по сравнению с пустыней, мы не увидим окончания этого шторма, мы не увидим, как это море захватит все континенты, я не увижу, никто не увидит.
С юга Сахару подпирает Сахель — «берег» в переводе с арабского.
Похоже на имя.
— Егор.
— Экорь? — переспросил араб. Он сидел на огромном белом камне у основания храма, считавшегося исторической достопримечательностью уже во времена Александра Македонского. Белый тюрбан, шоколадный шарф с золотой вышивкой и аккуратная черная бородка с благородным серебром мудрости.
— Егор, — повторили мы строго.
— Икар?
Нет, не Икар.
Мы плывем на верблюде, и это наш корабль, наша гибельная лодка, бредущая навстречу с концом света. Точнее — в то место, откуда он начнется, потому что конец света — это я.
Песок, песчинки, напоминает мне людей.
Мы тащимся очень медленно, мое тело покачивается между рогатинами на спине сонного верблюда, сопровождающий нас нубиец бубнит что-то себе под нос, какие-то непонятные песни, его голос хрустит, словно отвечая песку, скрипящему под мягкими копытами наших верблюдов. Мы разглядываем песок, я вспоминаю людей и радуюсь тому, что никого не осталось, в этом море до самого горизонта — всего двое. Мы и этот нубиец.
На границе деревни Абу Минкар его брат хотел нас сопровождать, но я отказался. Он таращился нам в спину, провожая взглядом, а я смотрел на него. Что люди чувствуют, я — вижу. Это как сон, как кошмар, только во плоти. Но я не могу из него выйти, мне некуда просыпаться. И кошмар преследует меня с тех пор, как во мне пробудилось Предназначение.
Всю дорогу сюда нас беспокоили ненависть, зависть и противная, хоть и безвредная жадность — эти нематериальные тени, порождаемые людьми, я научился различать их почти сразу, это они похожи на детей, пахнущих облепихой. Другие сложнее. Люди не понимают, насколько они опасны и как бывают сильны в своих чувствах. Когда я всматривался в оставшегося на привале нубийца, что-то шевельнулось под его накидкой, похожей на застывшую молочную пенку, на груди что-то вспучилось, складка на шее съехала вниз, словно ее отодвинули пальцем, и у самой шеи мелькнула розовая искорка. Глаза, зубы, что-то еще — это жадность. Нубиец хотел денег, хотел получить с меня больше. Жадность безобидна и приносит больше страданий своему владельцу, чем тому, на кого она охотится. Ночью она заберется в мою сумку и пересчитает все мои деньги и вещи, вплоть до самой никчемной тряпки. Закончив с этим, она вернется к хозяину сытая, толстая и лживая. И будет грызть его, утрируя, удесятеряя посчитанное.
Нубиец потеребил четки, и жадность скрылась. Мудрое решение.
В эту ночь без нее. За жадностью обычно приходит зависть, а этот продукт человеческой души куда страшней и опасней. Последний раз мы столкнулись с ним на пароме, когда плыли или, как правильно говорить, шли в египетскую Александрию из греческих Афин. Судно было тесное и душное, тащилось медленно и постоянно заходило в небольшие порты, петляя по островам обширного Кикладского архипелага — Миконос, Наксос, Тира, Иос, Милос… Я устал прятаться в собственной душной каюте и отправился на верхнюю открытую палубу. Все сиденья были заняты, и мы расположились на большой белой трубе, выступавшей, словно фрагмент застрявшего в корабле огромного червя. Здесь, пряча лицо от ветра, я старался не смотреть на окружающих, не заглядывать им в лица. Несмотря на хорошую погоду, ясный вечер и спокойное море, добрых чувств у них было мало: злоба, зависть, жадность, похоть. Днем они гнездятся на лицах, следят за происходящим, и это не самое приятное зрелище для меня. Я не хотел привлекать к нам внимание, чтобы не сталкиваться с ними, и все же ночью нас навестила угрюмая, тоскливая чья-то зависть.
Укрыться от нее невозможно, прогнать тоже. Ее насилие неотвратимо и неизбежно. Она проходит сквозь двери и перемещается со скоростью мысли. И она приходит до тех пор, пока ее хозяин не найдет себе другую жертву. Ночью, когда тело заснуло, я оказался наедине с этой болезненной тварью. Мы знаем, что второй прыжок вызывает у парашютистов больший страх, чем первый. Они уже знают, как это будет, но еще не успели привыкнуть, боятся не только прыжка, но и своего страха перед ним — страха в квадрате. Увидев ребенка, неожиданно возникшего в нашей запертой на все замки каюте, я мысленно содрогнулся. Как парашютист, я знаю, как это будет, но не могу к этому привыкнуть. Ни во второй, ни в третий, ни в сотый раз.
Девочка с длинными распущенными волосами была похожа на гриб. Облепиха, красноватый блеск обнаженных суставов. Она будто вывернулась наизнанку и, превратившись в огромную челюсть, набросилась на мою спящую душу.
Так происходит со всеми. В каждой каюте. Ненависть, злоба, похоть, месть, даже невинная опия, эта двуликая тварь, и та в работе.
За что я это вижу? Почему?
Я постарался отвлечься от боли. Разведать, что привело ко мне эту мерзость. Но зависть — глупое чувство, не понимает вопросов, не любит давать ответы. На все сто она соответствует своему безумному облику. Кажется, эту зависть вызвала моя беспечность, проявленная на верхней палубе. В то время как люди на палубе переживали по всем, даже самым незначительным поводам: неудобство, теснота, частые остановки, деньги, дети, жара, голод, сытость и прочее, — меня не волновало ничего, кроме моего Предназначения. Меня беспокоил только один вопрос: почему, чтобы оно свершилось, нам надо странствовать не менее шести дней? Зачем мы этим занимались, планомерно приближаясь к требуемой точке на карте? Почему нельзя было выбрать тело поближе? Нубийца из Абу Минкар, например. Ответы нашлись в пустыне.
Пришедшая к нам ненависть продолжала свое злое дело. Мое тело ворочалось, поглощенное этим кошмаром. Я знал, что, вернувшись, она проделает то же самое со своим хозяином. Но если этому событию уделить особое внимание, в тебе пробудится собственное чудовище — злорадство, и это будет грызть только тебя, только тебя одного, и если ему потворствовать — изуродует так, что даже обычные люди заметят обретенное тобой невидимое уродство, услышат исходящий от тебя отвратительный нематериальный запах, который древние называли аурой. Люди почувствуют — и начнут тебя избегать. Он нравится только извращенным, опустившимся людям, да и то не им самим, а овладевшему их сердцами смраду, которому они отдались, впустили в себя и дали окрепнуть.
Впрочем, мне это не грозит.
Не успеют.
Кругом песок.
Весь мир — это небо и песок.
Время в пустыне идет так, как ему захочется.
Иногда кажется, будто времени здесь нет вовсе, будто оно остановилось, а иногда — что и вовсе исчезло. Или будто оно проглотило пару часов, чтобы отрыгнуть их кому-то другому, сидящему в карцере заключенному, например. Время — очень злое существо. Мы знаем, что любого ученого можно поставить в тупик одним лишь вопросом из трех слов: «Что такое время?». Спросите, и вы увидите, как сытый знаниями человек будет блевать ответами. Время — это отвратительная сущность. Буддистские монахи стремятся к Нирване, считая ее высшей целью всех живых существ на Земле. Но если вдуматься, Нирвана — это всего лишь остановка времени. Фиксация мира в состоянии безмятежного покоя. Стоп-кадр. Людям не надо «счастливого будущего», достаточно и того, что не станет хуже настоящее. Им нужна страховка от ухудшений, приносимых ненавистным временем. Никто не умрет — все останутся живыми. Навсегда.
Наши верблюды одолели очередной песчаный вал.
В Александрии я понял, что это город, где от Греции ничего не осталось. Широкий и сильный Нил покорно склонялся перед ослепительным Средиземным морем, делился на мелкие, едва заметные притоки, рассыпался на ручейки, словно арабский визирь у ног своего блистательного халифа. В Александрии мы сели на поезд, следовавший через Каир и Луксор в Асуан. Этот путь на юг, вверх по течению Нила, проходил по туннелю из ночи, в котором мы едва не погибли.
Порой бывает сложно рассмотреть ночного гостя, тем более если его внешний вид, форма суставов и размер тела не знакомы. В купе египетского поезда было всего две койки, верхняя и нижняя. Мы заняли нижнюю и улеглись на ней, рассматривая рукомойник, сложенный за столом у стены напротив. Ночью дверной проем потемнел, и в купе возникла фигура, похожая на человека. Сперва мне показалось, что это похоть, чему я немало удивился. Это был мужской вагон. Фигура несла нож. Мой сосед спал так же крепко, как и мое тело. Разбудить кого-то из них было выше моих сил, я не мог этого сделать. Тем временем нож, самый настоящий материальный нож, струившийся сумеречной серостью стали, приближался к моему горлу. Человек приподнял руку и замер в нерешительности. Я заглянул ему за спину и увидел присосавшихся к нему нерешительность и сомнение. Эти пиявки способны сделать тряпку из любого. Они слепы и не понимают, когда уместны, а когда вредоносны. Наш сосед сверху повернулся, его телефон полетел вниз, но, удержавшись на проводе от наушников, качнулся в сторону и ударил наше лицо по щеке. Незнакомец с ножом испуганно вздрогнул. Я увидел, как за его спиной поднялись крылья — уродливые, перевернутые. Тяжелые крылья страха. Они цеплялись к человеку многочисленными зубами, похожими на костяных миног. Я знал, что, если эти крылья вовремя не отбросить, они сожрут тебя без остатка, черви будут перемалывать тебя до тех пор, пока не превратят в забитое, всеми презираемое животное. Кроме этого, страх вызывает практически необратимые изменения рассудка.
Мне повезло. Когда наше тело разлепило глаза, незнакомец, разглядев чужое лицо, опустил нож.
— Исфините, — прошептал он по-английски с тяжелым арабским акцентом, — путать вас другой парень.
— Ничего, — ответили мы, сделав вид, будто приняли его за соседа сверху. Не только китайцы все на одно лицо, бородатые арабы тоже.
Грязные бедуины в лохмотьях.
Черные нубийцы, обмотанные толстыми покрывалами.
Все на одно лицо.
Песок выглядит мягким, таким мягким и непрочным, что кажется, будто в нем можно утонуть. Но такое удается только камням, для которых время течет со скоростью пустыни.
Мой нубиец, кажется, заснул на своем верблюде.
А я вернулся в храм нашей памяти.
К воспоминаниям о нашем последнем путешествии.
Нет ничего страшнее женской похоти. Если мужская, насилуя жертву во сне, лишь заставляет тело жертвы извиваться в угаре своего тошнотворного смрада, то женская предстает во всей своей утонченной и безумной уродливости прямо посреди белого дня. Я столкнулся с ней на плавучей гостинице, шедшей с туристами из Луксора в Асуан. Корабль фиолетового цвета. Мне пришлось забраться в этот сосуд пьянства, разврата и пряного чревоугодия по причине того, что железнодорожные пути вниз по Нилу оказались засыпаны прошедшей накануне песчаной бурей. Дождей в Египте практически не бывает, и неудобства, причиняемые обычно осадками, здесь доставляют отходы ненасытного времени — пыль, покрывающая города толстым слоем рассыпчатого, но липкого войлока, и мелкий желтый песок, скрипящий на зубах и ботинках.
Фиолетовый корабль с именем «Флоренс» начинал свой путь в Луксоре, где туристов притягивал «великолепный» Карнакский храм, точнее то, что от него осталось. «Флоренс» еще не был готов к размещению пассажиров, и я вышел прогуляться к храму. Арабы ловко научились продавать отголоски древней египетской культуры, к которой они имели такое же отношение, как русские к каким-нибудь скифам или варягам. Улицы пестрели торгашами, предлагавшими брелоки, магнитики, открытки, колокольчики, вазы, лампы, статуи древних богов и даже надгробные плиты в натуральную величину, сверху до низу усыпанные одушевленными иероглифами убитого временем народа. Все это было распихано по лавкам, а свежим теплым хлебом торговали с земли. Домики жителей тянулись в небо лохматыми обрубками недостроенных этажей, туристическая полиция пряталась от жгучего солнца под небольшими навесами у самых стен храма и отчаянно потела, закованная в свою белую униформу. Арабы вели себя нагло и приставали к женщинам в вульгарных шортиках. Я представил, что будет твориться с ними этой ночью, когда женские каюты забьются хищными облепиховыми детьми и другими злобными бестелесными тварями.
Уличный ветер перемешивал запахи выпечки и горелого мяса, летевшие из ресторанов, с навозным запахом, тянувшимся от запряженных в небольшие повозки лошадок и ослов. Туристы пахли мылом, потом и самодовольным любопытством.
Нил пах самим собой.
Шу был бы доволен таким разнообразием.
Избыточная колоннада Карнакского храма словно пыталась защититься от неба, которое все равно падало на головы людей, обжигая солнцем их кожу и калеча их разум удушающей беспощадностью времени. Но это небо, бесконечно глубокое и синее, почему-то напомнило мне молодость. Когда время еще было мои другом и казалось мне добрым. Теперь, глядя на храмы, развалившиеся под его тяжестью, на святилища Осириса, поросшие кривыми стеблями минаретов, на высокие, некогда величественные строения, ныне больше похожие на склады бракованного кирпича и разбитых позвоночных костей некогда могучих колонн, мне становится грустно и скучно, и я возвращаюсь к уютным и теплым мыслям о своем Предназначении.
Скоро все это закончится, скоро все это будет не нужно. Скоро не останется ничего.
Похоть пришлепала ко мне засветло, когда я провожал Солнце за горизонт, а оно расплывалось закатом, из-за дымки похожим на тлеющий ядерный взрыв. Это было массивное и ослепительно влажное существо. Оно постоянно меняло свой облик. Переливаясь, перемешиваясь, становясь то одним, то другим, то третьим. Неизменным оставалась только его отвратительность — все оно напоминало бурлящий коктейль связанных с половыми органами розовых, коричневых и желтых форм, липких жидкостей и неровных, пульсирующих движений. Оно облепило меня со всех сторон и принялось медленно елозить, пропитывая зловонной жижей. Я знал, что оно не опасно и волноваться не о чем, оно закончит и уйдет, но расслабиться и получить удовольствие все равно не получалось.
Она приходила ко мне все три ночи, несмотря даже на то, что мы нашли ее хозяйку и, скрепя сердце, трахнули ее по-настоящему. Впрочем, возможно, я ошибся, и похоть источала ее малолетняя дочь.
Все три дня, пока плавучая гостиница добиралась до Асуана, туристы выбирались на берег осматривать очередные руины. Мы выходили на берег и ловили глазами фелюги — небольшие лодочки с огромными парусами, напоминавшими то ли перепонку, то ли огромные белые перья какой-нибудь неведомой птицы, разносимые ветром по ослепительному зеркалу Нила. Я проверял цифры координат в навигаторе и думал об истерзанных потомками изображениях фараонов на песчаных стенах храмов, о том, что даже в этом люди не могут тягаться со временем — в праве забыть, кого и что подвергнуть абсолютному забвению. Все зависит от «когда».
Пустыня мне нравится даже больше, чем Нил, и даже больше, чем Море и Горы.
В пустыне как будто нет времени, так вероломно отнявшего у меня всех, кого я любил, всех, кто любил меня, бывшего готовым в любую принадлежавшую ему секунду отнять меня у них. И счастье, которое я всеми силами пытался сохранить, которое так любил и берег.
Вспоминать больно.
Никого не осталось.
Вот так.
Мой навигатор достаточно точный прибор. Мне нужно оказаться шестого июня в шесть утра по координатам 26.66 северной широты и 26.66 восточной долготы. Только там и только тогда я мог бы исполнить свое Предназначение.
Верблюды приближались к заданной точке прямым курсом. На пути у нас не вставали преграды из скал или рек, я забыл о голоде и лишь иногда присасывался к фляге с горячей, едва не кипящей водой. Конец нашего путешествия стремительно приближалась, и вместе с ним приближался конец этого мира. Да, мое приближение неизбежно, мое появление неизбежно. От меня нельзя скрыться, потому что я повсюду, в каждом взрослом человеке. И если сейчас не справится это тело, Предназначение возникнет в другом. Это наше общее дело — всех, кто живет и страдает. И мы выполним его. Я — неотвратим, и с точки зрения застывшей Сахары я передвигаюсь со скоростью мысли. От меня нельзя скрыться.
И я пришел, и увидел, что время здесь спит.
Нубиец свалил мои вещи у небольшого желтого валуна, лежавшего в пятне из белого песка, словно желток на раскаленной докрасна сковородке. Затем он прикрепил поводья второго верблюда к задней рогатине своего седла и неторопливо тронулся в обратный путь. С его головы на меня лениво пялилось безразличие. Полезное чувство, я бы даже сказал — лекарственное. Странно, но именно в этот момент я понял свое странное родство с этими тварями. Понял, кажется, почему я их вижу.
Пустыня дала мне все ответы.
Кроме одного.
Мы посмотрели на часы — 18:53. Теперь я знал, что все эти странные цифры координат, шесть дней странствий и шесть утра шестого июня, когда мне суждено состояться — все это лишь условности, ритуальные танцы с бубном, никак не влияющие на вызов условного злодейского духа. Дух уже готов и для себя все решил, но ему необходимо убедиться, что на другой стороне все происходит не случайно, не само по себе, не сообразно вероятностному стечению обстоятельств или цепочке удивительных совпадений.
Ядерный взрыв погас.
Наступила темнота.
Ночью пустыня пела. Или выла. Мы знаем, что такое огромное количество песка остывает неравномерно, и это приводит его слои в движение. На поверхность вырывается звук. Гулкие и протяжные вибрации. Мы не спали — слушали этот потусторонний храп, как реквием, и давили ботинками скорпионов — опасных сподвижников Селкет.
В 5:55 утра было еще темно.
Сердце забилось чаще.
Оставалось совсем немного.
Мы встали на камень — он лежал в точности по требуемым координатам — и последний раз осмотрелись. Не смысла хранить этот мир, тем более, что кругом темнота, а на востоке небо лишь немного светлее, чем на западе. Этого мира сейчас не станет.
Я — конец света. Я — пришел.
Часы показали 5:59:57… секунды щелкали, словно четки в маслянистых арабских пальцах… 58… с траурной каемкой под ногтями… 59… наше сердце отчаянно застучало, голова зашумела, грудь приготовилась взорваться… 60… все!.. да, сейчас!.. 61… что?.. как это… 62… цифры менялись в невозможную сторону, такого времени не бывает — 5:59:62 — неужели и в этот раз оно нас обманет?.. 63… с каждой его секундой оно ворочается все медленнее… если верить ударам нашего сердца, 5:59:63 застыли на экране секунд на двадцать, прежде чем смениться на 5:59:64.
Мы вышли за границу… тело замерло в смертельном покое, не пережив этот выход, выход за пределы времени. Следующего изменения мне пришлось ждать одному. Все вокруг прекратило движение заодно с цифрами на часах, и на цифре 65 замерло окончательно. Звезды застыли, ветер стих, звуки исчезли… и мои мысли тоже замедлились… замедлились… загустели, стали прилипать к обездвиженной ткани пространства, застрявшего в твердеющем желе времени. Неожиданно я все понял. Понял и обрадовался — да, все именно так и должно быть. Потому что время — это неотъемлемая часть мира… конец света — конец времени… это нельзя увидеть, нельзя пережить… как нельзя плыть там, где нет воды…
Ненавижу время…
Все люди ненавидят…
Вот
почему
я
здесь.
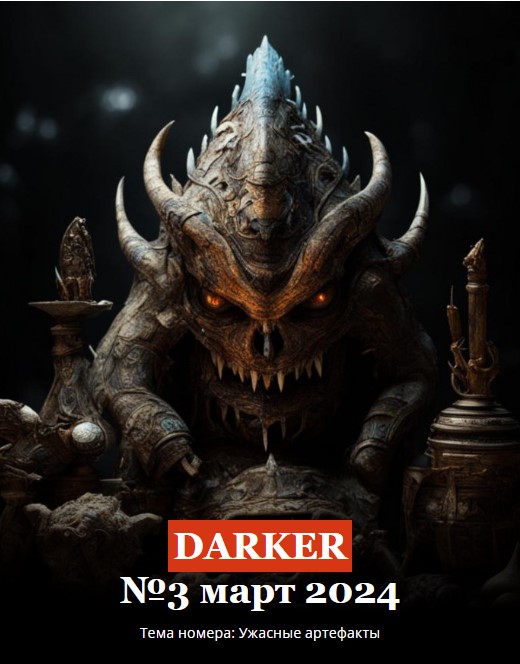


1 Zлыдень 24-02-2019 15:41
Прочитал рассказ с большим удовольствием. Мне кажется, если название «Аль сафар» говорит об обнулении, остановке времени, низвержении мира в ничто, то стоило бы еще раз обратиться к древнеегипетской мифологии, которой здесь много, и использовать Ниау и Ниаут, божественную пару из восьмерки богов-демиургов, которая олицетворяла ничто. Имхо, так было бы аутентичнее. Но и в текущем виде рассказ — великолепный!