
Иллюстрация Григория Авояна
Я захлопнул входную дверь и пошел к лифту. Возле стоящего на полу горшка с чахлым цветком разглядел небольшую лужу: опять соседские дети выгуливали пса в коридоре. Решил не скандалить. Катька, может, и сходила бы, попыталась что-то растолковать родителям, но где она сейчас, эта Катька?
Стена возле лифта оказались изрисована краской из баллончика. Такая же картина предстала передо мной и внутри кабины. Снова детские шалости — в нашем доме жило аномальное количество ребятни, прямо выставка плодородности российского народа.
На одиннадцатом этаже лифт остановился. Пыхтя и переваливаясь, будто наполненный жиром воздушный шарик, вошла она — великий враг, извечный оппонент, соседка из квартиры под нами.
«Не под нами, подо мной, — булькающий удар вклинился в размеренный ритм сердечных сокращений, — нету больше никаких нас, нету Катьки и уже и не будет».
— Здравствуйте. — Я миролюбиво кивнул. И знала бы мерзкая тетка, каких усилий мне это стоило.
Соседка не ответила. Она ненавидела нас всем своим заплывшим жиром сердцем. При каждой встрече брезгливо жаловалась, что мы по ночам устраиваем вавилонские оргии, а ее ранимый сынок от этого страдает. Если у нас случалась — даже в разгар выходного дня — скромная вечеринка с невинно тихой музыкой, она обязательно заявлялась, ломилась в дверь, требовала выключить дьявольские песнопения и вызывала полицию. Всякое происходившее в подъезде безобразие она тоже записывала на нас.
Лифт, покряхтывая, ехал вниз. Соседка буравила меня ненавидящим взглядом. Она полагала, что у нас с Катькой сложился естественный союз наркомана и проститутки.
— Это вы исписали, что ли, лифт? — внезапно прогундосила тетка. — Обязательно вы! Я ведь доложу, с вами разберутся. Животные!
— Мы еще и в подъезде нассали, — дружелюбно согласился я.
Была бы сейчас со мной Катька — ох как засмеялась бы!
Соседка хотела ответить, но разозлилась настолько, что слова слились в невнятное бульканье. А потом двери лифта разъехались, и я выскользнул наружу.
***
Когда Катька ушла, я полюбил гулять. Просто выходил на улицу и шел куда глаза глядят. Слушал в наушниках аудиокниги, иногда музыку. Старался заглушить бубнящий в голове надоедливый голос. «Дурак, идиот, мудак, все просрал», — корил он. И я с ним соглашался: мы с Катькой прожили душа в душу десять лет. Порой, случалось, ссорились, бывало, спорили, но сразу же мирились.
А теперь Катька ушла. Сказала, что дело не во мне, что устала, что никого не нашла, просто не может вместе. Призналась, что в свои тридцать она ощутила зов, поняла, что жила неправильно, что надо иначе. Попросила не искать. И исчезла. Одни друзья говорили, что она уехала в поисках духовных прозрений в Тибет. Другие утверждали, что она вернулась к родителям в маленький городок в Карелии. А кое-кто молча удалил меня из друзей в социальных сетях, придумав, что я Катьку физически и морально угнетал.
Жизнь моя стала подобна испортившейся кисельной жиже, которую недотепа-хозяин никак не выльет в унитаз: вязкая, серая, никчемная. Я механически решал рабочие задачи, ел, потом бродил по городу, возвращался, смотрел, не вникая, эпизод случайного сериала, спал.
Засыпать одному было тяжело: мы за пятнадцать лет будто стали сложным ночным механизмом. Рука сюда, нога вот так, голова под особенным углом; а ночью Катька трансформировалась в гусеничку, заматывалась в одеяло и вытягивалась по-диагонали через весь матрас.
Я чувствовал себя прибором, из которого выковыряли часть электроники, какие-то микросхемы проклятые и моторчики, а потом все равно надумали включить.
***
Я забрел в дальний конец города и теперь, шагая по улице, на которой прошло мое детство, удивлялся, что ничего здесь не изменилось. Будто бы район накрыли непроницаемым куполом, отражающим все потуги прогресса. Все те же проржавелые остановки, кривобокие киоски, покалеченные лавочки и магазины с развалившимися входными группами.
— Слы, паря, подь-ка сюды! — услышал я и будто перенесся в прошлое лет на двадцать пять. На крошащемся бордюре сидели трое мужичков в спортивных штанах и карикатурных кепках. — Ты чего тут такой, а?
Я развернулся к ним спиной и ускорил шаг, надеясь избежать конфликта. И тут мне почудилось, будто сзади тяжело затопали. Не раздумывая, я побежал. Ммчался сквозь дворы, менял направление, срезал через буйные палисадники. Сердце колотилось — сказывалось отсутствие физических нагрузок.
Остановился, попытался отдышаться и прислушался — нет ли звуков погони, но, судя по всему, тревога оказалась ложной. Меня просто решили шугануть. «Кажется, — догадался я, устыдившись, — за мной никто особо и не гнался».
Я огляделся по сторонам и тут же сообразил, что добежал до Мишкиной пятиэтажки. Ох, сколько же приключений было здесь когда-то! Вот там мы строили кильдим, который местные бабки потом заставили разрушить — опасались, что зимой он станет наркоманским притоном. А вот здесь случилось великое побоище с соседским двором — мне тогда сломали руку, а Мишке выбили два зуба. А тут я на всей скорости врезался на велосипеде в бетонный столб — успел спрыгнуть в последнюю минуту, а велик жутко искорежило.
Я будто бы проснулся — впервые, кажется, со дня, когда ушла Катька, я ощутил себя живым. Понял, что ужасно хочу увидеть Мишку, услышать его хрипловатый голос, вспомнить наши приключения.
Я влетел в Мишкин подъезд, поднялся на второй этаж — ай, как же все вокруг было знакомо, сколько раз я приходил сюда в детстве — и замер. Дверь в Мишкину квартиру оказалась распахнута, тянуло пыльной сыростью и, кажется, гнильцой.
«Переехал», — расстроился я. Чуть потоптался на пороге, раздумывая, может, постучать к соседям, спросить — нет ли нового Мишкиного адреса или телефона. И тут же ощутил, что из меня куда-то начал утекать энтузиазм, будто я был ванной, из которой выдернули затычку. Я вспомнил о своих бедах, и мир вокруг — и без того сейчас несимпатичный, пыльный, вялый — накрыло липкой паутиной.
Я тряхнул головой, приказал: «Хватит уже жалеть себя, рохля». И шагнул в Мишкину квартиру.
Внутри все было так же, как и раньше: обои, линолеум, сломанные крючки для одежды. Кухня пустовала, вынесли даже газовую колонку — на стене на ее месте осталось неровное черное пятно. Стоял прескверный запах: гарь, копоть, прогорклый жир. В самом углу комнаты я разглядел груду пепла, остатки то ли сумки, то ли мешка и красноватого картона. Как будто здесь жгли книги.
«Что я делаю? — задумался я. — Зачем мне это запустение? Будто в моей жизни мало убожества и пустоты».
«Хочу найти Мишкины контакты, вдруг записку к стене прикололи», — тут же придумал я себе ответ.
Я прошел по коридору, открыл толчком ноги дверь в бывшую Мишкину комнату и застыл в изумлении.
На пыльном трехногом табурете, стоящем в центре помещения, лежала большая красная книга. Она — яркая и сочная — смотрелась так, будто в фильм-нуар кто-то вставил кадр из мультика. Обложка выглядела старой и потрепанной, но чистой — ни пыли, ни плесени. Она крепко контрастировала с почерневшими обоями и покрытым изломанными трещинами и выпуклостями линолеумом.
На обложке был изображен мужик c синими зубами и странной костяной рукой. Он будто бы вылезал из синего окошка, ведущего внутрь книги. Над мужиком парил на перепончатых крыльях череп и летала огромная красная рука. Еще выше громоздилась надпись, выполненная веселым мультяшным шрифтом. В нижнем правом углу значилась цифра «10».
Что-то в этой книге мне показалось знакомым. В душе подпрыгнул и мягко покатился клубок из странных чувств: опять ностальгия, воспоминания и почему-то… страх?
Я подошел к табуретке поближе, протянул руку и взял книгу. Разобрал наконец-то надписи: «Эдуард Успенский», чуть ниже «Общее собрание». И, конечно, сразу же все вспомнил.
Это была книга страшилок, последний том собрания сочинений детского писателя. В предыдущие выпуски входили истории про Чебурашку, Простоквашино, Гарантийных человечков — и когда тома выстраивались на полке, то на корешках складывалась фамилия автора. Только последней буквы обычно в ней не хватало. Как же мы ненавидели и парадоксально любили все эти ужасающие страшилки про красную руку, черную простыню и зеленые пальцы, совместно истязавших невинных детей. Ненормальные, смешные и безумные это были истории — мы прятали десятый том под кровати и в шкафы, лишь бы не увидеть случайно его пугающую красную обложку ночью. Я припомнил, как выдирал страницы с самыми жуткими страшилками и перечеркивал фломастером рисунки.
Я сунул красный том под мышку, еще раз окинул взглядом окружающую разруху и понял, что здесь мне больше делать нечего.
На лестнице мне повстречался мужичок — пропитый, в кальсонах с пузырящимися коленками. Я хотел было пропустить его и поскорее выйти на улицу, но неожиданно для самого себя заговорил:
— Привет. Слушайте, вы в этом же доме живете?
— А? Че? Ты кто такой? — неприязненно уставился на меня алкаш.
— Я друг Миши Татаринцева. Вот, пришел навестить — а квартира открыта, пусто там, разруха. Не подскажете, случилось что-то? Мишка съехал?
— У-у-ух, брат. — Голос мужика потеплел, а выражение лица сделалось печальным. — Ты, видать, давно с Татаром не общался, а?
— Да почти со школы, все как-то случая не было. — Мне стало неловко.
«Чего это я оправдываюсь перед бухариком», — занервничал я.
— Фига себе друган, — качнул головой пьянчужка, но потом добавил миролюбиво: — Хотя, конечно, пути божьи неисповедимы, я вот на материны похороны не сходил, в запое был, бля.
— Ладно, спасибо. — Испугавшись, что мужик начнет изливать мне душу, я шагнул по ступенькам вниз.
— Да не боись, на уши не сяду. Мишка Татар твой пять месяцев уже как петлю на шею кинул. Как дочка его пропала, так он сам не свой сделался. Нормальный мужик был, работящий, а тут запил как проклятый. Все он, значит, напивался, а потом шел на улицу Ленку искать. Не ту Ленку, которая его жена — эта уже после пропала, лярва. А маленькую Ленку, ихнюю дочку. Менты-то сказали, что это небось старшая Ленка дочку спрятала, а потом и сама от него ушла, но Татар чего-то свое по этому вопросу думал. Думал-думал, ну и вот додумал…
Я провел ладонью по вспотевшему лбу: мужик невнятно тараторил, но главное я разобрал, и на душе стало пасмурно. «Мишка-а-а, ну что же ты…» — подумал я.
— Чудной он, правда, в конце уже был, — понизив голос, добавил мужичок, — чего-то ему все виделось. Он даже и выглядеть стал каким-то плоскостным. Нет, не просто похудавшим, а точно из него объем вышел. А еще я его за пару часов до того, как он кончился, повстречал. Шел с мешком, лыбился, говорил, мол, пирожков душа просит, и, представляешь, чтоб обязательно с мяском. Но, видно, перемкнуло его сразу за этим: пожар у себя устроил и тут же и подвесился.
***
Я подходил к своему дому. Уже начинало смеркаться, воздух пах приятной осенней свежестью, под ногами уютно шуршала желтая листва. Но на душе у меня свила гнездо черная хандра: я шел и думал, как же ужасно сложилась Мишкина судьба. Он всегда был сердцем нашей компании, первым впрягался, когда нас задирали, твердил, что за своих надо стоять горой. И вот тебе на — дочь пропала, жена сбежала, запил. И разве кто-то из нас ему помог? Я бы даже и не вспомнил о Мишке, если бы не гопники…
От мыслей о Мишке я перепрыгнул на думы о своих бедах. Впереди маячили пустая квартира, заваленная книгами и пакетами из доставок еды, вечерний сериал и холодная кровать. Вот этот момент — возвращение туда, где ты никому не нужен — казался мне самым тяжелым. Раньше дома меня ждала Катька. Ее запах, ее суетливая активность, ее смех, ее раскиданные платья и рассыпанные у порога туфли, ее…
Из задумчивости меня вывел крик:
— Э, чмо, заткнись!
Я внутренне напрягся, но тут же с облегчением понял, что кричали не мне.
Возле мусорных баков толстенный пацан отвешивал оплеухи очкастому парнишке. Толстяка я знал — это был сын жившей под нами скандалистки. Переросток, терроризировавший всю округу. Он мучил детвору, крал вещи из припаркованных машин. Однажды угрожал ножом старшекласснице из нашего же дома, требуя, чтоб та показала грудь.
— Слышь, малой, отпусти парня! — рявкнул я.
— А то чо? — лениво переспросил он, продолжая раздавать оплеухи. — Чо мне сделаешь-то? Только тронь, заяву напишу.
— Матери скажу, — пригрозил я, и пацан изменился в лице. Он выпустил свою жертву и сделал пару шагов назад.
Жирдяй боялся мать. Мы не раз слышали, как она орет на него и колотит смертным боем.
— Мудило и стукач! — обиженно крикнул толстяк и, по-дурацки переваливаясь с ноги на ногу — ни дать ни взять копия мамаши, — исчез в ближайшей арке.
— Ты как, нормально? — спросил я у избитого им парнишки. Тот, вытирая с пунцовых щек слезы, несколько раз растерянно кивнул.
Я лежал на кровати — за окном шуршал дождь, комнату освещал мягкий свет лампы — и листал десятый том «Общего собрания» Успенского. С высоты моих нынешних лет страшилки выглядели совсем иначе. В девять-то, конечно, все эти кровососущие куклы и фосфорные люди производили особенный эффект: страницы сочились ужасом, твари из-под красной обложки приходили во снах, таились в шкафах и прятались в темных углах. Сейчас же эти истории вызывали грусть, щемящее понимание неумолимости времени и — где-то совсем уж на дальнем плане — легкий, воздушный, эфирный отголосок былого страха.
Я дочитал книгу и на заднем форзаце обнаружил удивительный штамп: сильно вытянутый вверх, выпуклый, возвышающий над плоскостью страницы на добрую половину сантиметра. Казалось, что это не оттиск, а чудная бумажная плоть, выросшая прямиком из внутренностей книги. Я провел по оттиску пальцем — на ощупь чуть скользкий, совсем не такой, как сама страница. Мне почему-то показалось, что я потрогал кусок сырого мяса. Рисунок я разобрать не смог — прямоугольник с непонятной мазней.
«Удивительное дело, — подумал я. — На моей такого точно не было».
Не припомнил я ничего похожего и на экземплярах друзей.
Я вскочил с кровати, собираясь позвать Катьку и показать ей странную находку, но опомнился. И тут же бросился к ноутбуку.
«Отвлекись, — приказал я себе, — ищи про штамп, делай что хочешь, не думай о Катьке».
***
Всю ночь я рылся в интернете и довел себя до состояния умственного изнеможения.
Я выяснил, что иногда на заднем форзаце книги Успенского действительно обнаруживался такой вот странный штамп. Отыскал несколько фотографий, на всех он был похож на тот, что украшал том из Мишкиной квартиры. Люди удивлялись форме диковинного оттиска, но никто не пытался подробнее изучить этот вопрос.
«Какой странный штамп #жуть #книгадетства #страшилки #пятница13» — посты из Инстаграма соседствовали с шутками вроде «это я небось от страха из носа вареньем в детстве чиханул».
Когда мне показалось, что все, я угодил в тупик и рыть теперь уж точно некуда, —наткнулся на дельный совет: по связанным со старыми книгами вопросам нужно идти к букинистам. К одержимым ветхими томами дедам, торгующим своим бумажным скарбом в любом большом и малом городе.
Исполненный решимости начать завтрашний день с визита к продавцам подержанных книжек, я погрузился в беспокойный сон. И приснилась мне почему-то огромная красная курица. Она хлопала своими маленькими крыльями и бережно загоняла под них бордовых цыплят.
Букиниста звали Лаврентием Игнатьевичем. Он носил нелепую широкополую шляпу; под носом у него белели пышные усы. Одет Лаврентий был в грязный пуховик — слишком жаркий для нынешней погоды, а на ногах сияли резиновые сапоги. Когда я спросил у одного из продавцов про специалиста по детским книгам, мне сразу указали на Лаврентия — тот занимался их скупкой-продажей уже добрых тридцать лет.
— Как же, как же, десятый том Успенского, — задумчиво покивал букинист. — Знаю. Много их через меня шло, очень была в девяностых популярная книжка.
— А с выпуклым штампом на заднем форзаце вам они не попадались? — спросил я.
Мужик вдруг как-то поник, скукожился, и я только сейчас сообразил, насколько же он старый и как сильно велик ему разноцветный пуховик. «Боже, да он же совсем дед, ему, наверное, далеко за восемьдесят», — подумал я.
— Видал и такие, — кивнул Лаврентий.
Потом он замолчал. Я сперва решил, что он следит за одним из стоящих возле его лотка покупателей, но тут же понял, что ошибся. Глаза букиниста уставились в одну точку, чуть затуманились и заслезились.
— Лаврентий Игнатьевич? — осторожно позвал его я.
— Ах да. — Старик пришел в себя. — Дурная она, когда с печатью. Мне попадалась, да. Я даже продавать их раздумал, запирал в шкафу на лоджии. Как-то заглянул внутрь — а у меня их уже штук десять скопилось. И знаешь, почему-то показалась мне их куча такой мерзкой, будто это тушки каких-то зверей. И все они точно шепчут чего-то, шелестят своими страничками, требуют чего-то.
Я вспомнил, как трогал штамп и чувствовал под пальцами его мясистую текстуру, и поежился. Моя легкая куртка вполне справлялась с октябрьской прохладой, но на мгновение я позавидовал старику и его теплому пуховику.
— Эй! — крикнул букинист, и я вздрогнул. — Берите, хорошая книга, я внукам вслух читал, ох и хохотали же они.
Я в недоумении уставился на старика и тут же сообразил, что он обращался к покупателю. В глянцевых его сапогах отразился, будто в зеркале, солнечный луч, и мне показалось, что ноги Лаврентия полыхнули красным огнем.
— Спасибо, я пойду, пожалуй, — махнул я рукой.
— И еще такая вот вещь, — шепнул Лаврентий, едва я повернулся к нему спиной. — Я иногда стервятил, но, видит бог, без злого умысла. Скупал книги за умершими детьми. Обычно хорошие люди их, то есть книги, предпочитают хранить, но есть и дурные семьи, есть наркоманы. Ребенок помер — и из сердца вон.
Я весь превратился в слух. Не знаю почему, но мне показалось, что сейчас услышу что-то невероятно важное. Что-то такое, что изменит мою жизнь навсегда. Странное чувство — если я видел такие фразы в романах, усмехался, мол, что за дурацкое клише. А тут мурашки побежали по спине, а сердце словно кто-то сжал когтистыми руками.
«Не слушай, иди домой, не слушай, иди домой, не слушай», — запричитал внутренний голос, но было поздно.
— И когда мне попадалась после умерших и потерявшихся детей эта книга, в ней всегда, понимаешь, всегда стоял штамп. — Шепот старика стал совсем тихим, но я разобрал каждое слово.
Не оборачиваясь, я зашагал домой.
«Просто байка, — сказал я себе. — Совпадения, какой-то коллекционер штампует книги лихой печатью, вот и все тут».
Внезапный порыв ветра вдруг обнял меня кислым запахом спелых дрожжей и густым духом лежалого мяса.
***
На мою форумную просьбу написать все, что известно о десятом томе собрания сочинений Успенского, пришло множество ответов. В основном рассказы о том, какой ужас вызывала у читателей книга в глубоком детстве. Истории про то, как в ночи она сосала у ребенка кровь. Как порхала вместе с летучими мышами. Как из нее высовывались когтистые руки и как из оторванного корешка хлестала вонючая зеленая жижица. Я вспомнил, что мы тоже сочиняли подобные небылицы: книга, собравшая жуткий детский фольклор, ожидаемо сама стала его объектом.
Еще мне прислали фотографию — скверный черно-белый снимок газетной статьи. Копия интервью с редактором Неониллой Самухиной, ответственной за выпуск всей серии книг Успенского. И рассказывала редактор удивительные вещи: якобы десятый том собрания не должен был состоять из страшилок. Он бы слишком сильно диссонировал с детской серией: где Чебурашка с дядей Федором — и где истории про съеденных детей?
Более того, утверждала Самухина, Успенский никогда этих текстов не писал и всегда говорил, что пугать детей — глупо. Макет, рассказывала редактор, загадочным образом попал в типографию, был напечатан и отправился по складам и магазинам. Успенский сперва собирался судиться с издательством — чего, мол, это вы под моим именем такое выпускаете, но потом пошли продажи и том с лихим отрывом опередил всю серию. Писатель получил отчисления и примирился.
Фотографию сопровождало сообщение — приглашение в гости. Я изучил профиль отправителя: зарегистрирован очень давно, множество постов и в основном все по фольклористике, объявления о покупке старых книг. Вроде на маньяка человек не похож. По адресу — нормальный дом в хорошем районе.
Я долго оценивал, идти или нет. В обычных условиях, конечно, отказался бы, не раздумывая. Но сейчас я балансировал на тонкой ниточке: с одной стороны распахивало ледяную пасть одиночество, с другой — клубилось мутное месиво из красных простыней, зеленых пальцев, дурных загадок, шевелящихся томов.
Я ворочался всю ночь, в полузабытьи пытался отыскать рукой Катьку, просыпался, ходил пить, опять засыпал и вновь тревожно просыпался. И под утро, намучившись, принял решение.
В аккуратной «сталинке» меня встретил бодрый старичок. Ни усов, ни бороды, темные волосы с ниточками седины, квадратные очки. Я подарил ему книгу — сборник стихов забытой советской поэтессы с автографом. — а он пригласил меня попить чаю. Старичка звали Агапов Петр Семенович.
— Пирожков? — предложил он мне.
Я отказался.
— А и напрасно, молодой человек, — попенял мне Агапов. — Пирожок с мясом, между прочим, это важное дело в жутком детском фольклоре. Через него всегда идет принятие или, наоборот, инициация. Отведал пирожок с мясом, от бабки, конечно, которая человечину в подвале крутит, и все, ты уже неотъемлемая часть истории. Хочешь их постоянно — как бы уже теперь ты и не из рода людского, а сертифицированный вурдалак и упырь. Ну а если без культурологии, то они у меня просто очень вкусные.
И когда весь странный политес был соблюден — Агапов наелся пирожков, а я напился чаю, — полился рассказ. И по ходу этого рассказа горло мое, а ведь я молчал как рыба, пересыхало, а сердце то пугающе ускорялось, то вовсе замирало.
— Может ли книга издать себя сама? — спрашивал у меня Петр Семенович и, не дожидаясь моей реакции, отвечал: — Нет? Однако ж мы знаем, что информация из городских легенд ведет себя подобно вирусу: передается от слушателя к слушателю и захватывает воображение, заражает. Но со временем слушатель вырабатывает к этим легендам иммунитет: перестает верить и высмеивает. У нас такое случилось в конце восьмидесятых, когда жизнь радикально изменилась, стала циничнее. Сыграл роль и крах систем пионерских лагерей — главной жизненной среды страшного детского фольклора. Истории, чтобы выжить, вынуждены были мутировать.
Я слушал лекцию Агапова, и мозг мой закипал. Филолог рассказывал вещи, которые казались одновременно логичными и безумными. Мне не хватало квалификации для оценки его диких гипотез, но звучали они пугающе внушительно.
— И эволюционно стабильной стратегией для жуткого фольклора, — продолжал Петр Семенович, — стала мутация в своеобразный рой. Бумажная артикуляция, сборник. И внедрение этого сборника в серию книг популярного детского писателя с тиражами в сотни тысяч экземпляров. Как же ловко!
Из теорий безумного филолога выходило, что книге, обеспечившей безопасность и комфортную передачу легенд, потребовалось питаться. Побочный эффект эволюционной, как он это называл, артикуляции. Агапов привел пример: одна живая клетка безобидно поглощает неодушевленные молекулы питательных веществ, а собранная из этих клеток сова должна жрать живых зайцев и мышей.
Питалась книга, согласно бредням Петра Семеновича, детьми. Он не знал, как и почему, в прямом ли смысле или метафорическом, плотью их или, например, страхом. И ему ужасно хотелось бы (когда Петр Семенович рассказывал, глаза его делались маслянистыми) посадить ребенка в клетку, дать ему книгу и дальше наблюдать столько, сколько потребуется.
Агапов говорил, что по поводу штампа у него тоже есть гипотеза, но ей пока он делиться не готов. Что он проводил множество исследований, общался и с самим Успенским, и с ответственным редактором серии, с корректором, с работниками петрозаводской типографии, отпечатавшей книги, с директорами складов и магазинов. Говорил, что, разумеется, никто и никогда не пробовал сопоставить данные о загадочных смертях и исчезновениях детей с тем, был ли у них десятый том Успенского. А он, Агапов, пробовал, искал, собирал статистику и огреб большие неприятности — подозревали даже, что он маньяк и педофил…
Я слушал невнимательно. Перед глазами стоял образ: сидящий в клетке ребенок и наблюдающий за ребенком старик с гладко выбритым лицом. Меня подташнивало, кружилась голова, накатывали волны отвращения. «Психопат, паранормально-филологический шизофреник», — думал я.
В конце концов я не выдержал и прервал старика прямо посреди очередной его бредовой гипотезы. Я извинился и пулей вылетел из квартиры Агапова. Он что-то разочарованно кричал мне вслед, я сумел разобрать лишь горестную мольбу откликнуться, когда у меня возникнут соображения по эксперименту.
***
Всю ночь после посещения безумца я не мог прийти в себя, валялся на кровати и при тусклом свете ночника бессмысленно листал жуткую красную книгу. Голову буквально раздувало от мутных и тяжелых мыслей, и я в какой-то момент с удивлением понял, что ни одна из них не была о Катьке.
Под утро я заснул, и мне снилось, что я открываю шкаф и из него вылетает красная простыня. Она обхватывает мое горло и начинается душить, а я не могу даже закричать и позвать на помощь, потому что знаю, что никто меня все равно не услышит. Я проснулся от боли в шее и обнаружил, что чуть было не задохнулся, запутавшись в пододеяльнике. На кровати рядом со мной лежал десятый том собрания Успенского.
Днем я сел за ноутбук и попытался поработать. Но мысли путались, сконцентрироваться на таблицах не получалось, в итоге я просто бесцельно шатался по интернету. Потом ощутил приступ голода и, хотя в холодильнике было немало еды, отправился в магазин.
Я и не знал, чего бы мне купить: сосиски не заинтересовали, на хлеб и молоко я смотрел с отвращением. Так и не выяснив, что хочу, я с пустыми руками выдвинулся домой. И у самого подъезда вновь повстречал сына соседки. Совершенно не смущаясь прохожих, он снимал на камеру телефона сгорбившегося у его ног парнишку лет десяти. Жирдяй пинал его и чему-то зычно поучал. Несчастный плакал, но ублюдок, казалось, от этого лишь сильнее распалялся.
Я замер на месте, соображая, что предпринять. Потом решился и шагнул в сторону недоноска, сжав кулаки и намереваясь наконец сделать то, о чем уже давно молила его мерзкая рожа. Но в этот момент он резвым движением спустил штаны и… принялся мочиться на скорчившегося у его ног парнишку.
— Че, как тебе душ, деревня? — гоготал он.
И тут мне все стало кристально понятно. Ни оплеухи, ни переговоры с полоумной мамашей не спасут: этого порченого выродка все равно не вылечить в человека, поможет только радикальная хирургия. Я мысленно повинился перед истязаемым им бедолагой и, отвернувшись, прошествовал к подъезду. Нельзя было, чтобы у меня случился прилюдный конфликт с гаденышем.
Распахнув дверь, я едва не врезался — вот ведь совпадение — в ненавистную соседку. Она мазнула меня полным отвращения взглядом и что-то зло забормотала.
— Вы видели, что там вытворяет ваше чадо? — поинтересовался я, давая тетке и себе последнюю возможность не допустить задуманное.
— Он у меня мальчик взрослый, ему тринадцать, сам решает, что можно делать, а что нет. И плохого, уж я-то знаю, никому не причинит, я в строгости его воспитываю. Вы тут еще советов мне отсыпьте, ну. Сами недавно под кайфом признавались, что в подъезде испражняетесь!
Вечером я написал Агапову короткое сообщение: «Какой предельный возраст ребенка для эксперимента?»
Ответ пришел быстро: «Думаю, что лет четырнадцать, если старше, то это уже скорее юный взрослый».
Я удовлетворенно кивнул.
***
Я стоял возле просторного аквариума, в котором сидел тяжело дышавший жирдяй. Толстое стекло было заляпано, перемазано слюнями, кровью и чем-то мерзким и коричневым. Видимо, пацан пытался вырваться, разбил кулаки, а потом уже от обезьяньей своей ярости обгадился и испачкал в бессилии стены. На мгновение мне стало его жалко — но в памяти сразу всплыла отвратительная сцена у подъезда. Жалость утонула в потоке отвращения.
Судя по всему, Агапов давно уже подготовил в дачном своем подвале это чудовищное сооружение. Большое помещение, камеры — обычные и ночного видения. В стенке аквариума окошки для еды и туалетных нужд. Внутри десятый том собрания Успенского. В углу комнаты — железный шкаф, в нем еще штук десять совершенно новых красных книг. «Где он их такие взял?» — подумал я.
— Он почти сразу подчинился, — рассказывал мне Агапов. — Ну, он сам же живет по законам животного мира, кто сильнее, тот и прав. Так что, когда к нему применили силу, сперва брыкался, а потом все понял и смирился. Прекрасный экземпляр.
Переросток смотрел на нас с ненавистью.
— Ничего не смирился, я не экземпляр, — закричал он. — Мама все узнает, вам жопа будет, клянусь!
Агапов пожал плечами и улыбнулся. При здешнем освещении зубы его неприятно отдавали синевой.
— Что ж, ваша помощь с этим неэкземпляром была неоценимой. Полагаю, вам тоже интересно узнать, как и что тут будет работать, верно?
Я с отвращением помотал головой, тошнота подступила к горлу. «Боже, что я наделал! Как отменить? Что будет?» — заверещал паникер в недрах моего рассудка. Как я вообще мог решиться? Будто бы не я это сделал, а кто-то другой моими руками.
— Не очень интересно, — выдавил я. — Потом просто напишите по результатам.
Агапов охотно и даже как-то немного подобострастно закивал и протянул мне на прощание ладонь. В странном свете подвальных ламп она была ярко-красного цвета.
***
Это были две самые странные недели в моей жизни.
Меня переполняло ощущение полной апатии: я не думал ни о Катьке, ни о загадочной книге. Мне почти не хотелось есть, но и еда в меня не лезла. Кисло непочатое молоко, плесневел хлеб, а я стремительно худел. Иногда я вспоминал об аквариуме и сидящем в нем отморозке. Задумывался о том, что же делает сейчас полоумная соседка, обратилась ли она в полицию, есть ли какие-то против меня улики. Но скоро обо всем этом забывал.
Я заметил, что жизнь соседской малышни после исчезновения жирдяя стала куда спокойнее. Мелюзга, раньше пугливо сидевшая по домам, заполонила двор. Девочки играли в салки, пацаны качались на качелях. Я видел, как за гаражами мальчишки и девчонки кидают друг другу мячик и неловко целуются. Душа моя при виде такого количества детей с восторгом пела.
Я стал записывать в блокнот, в каком подъезде и квартире живут детишки. Я заходил с ними в лифт и запоминал, на каком этаже они выходят и в какой звонят звонок. Заметил, например, что парнишка, на которого мочился жирный недоумок, стучал в сороковую в моем подъезде на пятом этаже.
Мне казалось невероятно важным отследить, насколько улучшилась и упростилась их жизнь после исчезновения жирдяя. Подумывал, может, придется заглянуть и поговорить с их родителями — посоветовать обращать внимание на детей: не стали ли они жертвами выродка или, наоборот, не сделались ли обидчиками сами.
…Я придумал для себе множество объяснений, почему фиксирую адреса детей, но все они были недостаточно убедительными. Правда заключалась в том, что я и сам не мог полностью понять, зачем же это делаю.
В один дождливый день ноги сами собой донесли меня до развала букинистов. Издалека завидев людей, толпящихся вокруг столов со старыми книгами, я попытался припомнить давний разговором с Лаврентием Игнатьевичем. Что он там мне говорил? Я знал, что речь шла о красной книге Успенского, но точный смысл куда-то ускользал, расплывался по памяти, будто слишком жидкое тесто по противню. Мне вдруг безумно важно стало вновь увидеться со стариком.
Я вклинился в группу покупателей и поискал глазами — белоусого букиниста нигде не было.
— Вы не подскажете, — спросил я у одного из продавцов, — Лаврентий Игнатьевич сегодня не торгует?
— А вы ему кто, простите, будете? — Он настороженно уставился на меня.
— Постоянный покупатель, — зачем-то соврал я. — Он мне помогал библиотеку собрать. Вот, должен был новый том…
— О-о-ох, — мужчина скорбно качнул головой, — не соберет вам Лаврушка библиотеку. Он с неделю тому назад старухе своей башку насмерть раскроил, а потом спокойненько чемодан книгами загрузил и, представьте, попер с ними куда-то…
— Чего-чего он? — Я почувствовал, что земля подо мной заходила ходуном. — Убил, что ли, жену и сбежал с каким-то книгами? Что это за бред?
— Не, — мой собеседник поморщился, — не так. Он жену прибил, а потом попер по подъезду ходить с кучей книг. Явно, конечно, кукухой двинулся: жена его была наидобрейшей бабой в мире, Лаврушенька то, Лаврушенька се… Хотите я закончу?
— Что закончите? — Реальность вокруг меня трещала по швам; казалось, что весь этот абсурдный разговор мне просто снится.
— Ну, вашу библиотеку, вместо Лаврушки! — удивился моей непонятливости продавец. — Какие он там книги вам должен был достать?
— А с Лаврентием-то что? — Я понял, что утопаю в этой странной беседе, что мне надо скорее из нее выплывать, покуда в легких осталось хоть немного воздуха.
— Так помер он. Попер этот свой чемодан с книгами в подъезд, к соседу принялся ломиться, а тут его инфаркт и ухватил. Старый, конечно, дед был, сердце после двух шунтирований, небось хорошенько выпимший еще. Жену-то по трезвяку вряд ли убьешь. Хотя, может, я бы свою и того…
Я обхватил руками голову. Щеки почему-то горели, и на мгновение мне показалось, что ладони мои касаются вовсе не кожи, а румяного горячего теста.
— Ему, — продавец вдруг заговорщически понизил голос, — представьте, говорят, ребетенок соседский дверь открыл, а Лаврушка уже крякнул. И постреленок, значит, выходит, а там мертвый дед лежит на чемодане, в руках книгу держит, еще и весь кровищей жены измазанный. Ох, бедный пацан. Ну что, я закончу вам за Лаврушку библиотеку?
Я не стал отвечать, повернулся к продавцу спиной и поспешил домой. Меня слегка потрясывало.
***
Как-то вечером я получил письмо от Агапова. В нем был короткий, меньше минуты, видеоролик.
Я запустил видео и понял, что это отрывок ночной записи с камеры наблюдения из стеклянной клетки. Я, не веря своим глазам, смотрел, как десятый том Успенского задрожал и из него наружу полезли бесформенные комки страниц. И страницы эти — как это вообще было возможно? — сделались сперва огромными, будто надутые паруса, а потом свили уродливый кокон вокруг спящего на полу сына соседки. Он чуть потрепыхался внутри, попытался пробить диковинную бумажную плоть руками и ногами, а стенки в ответ стали быстро сжиматься. Голова вдруг вывалилась из кокона — и мальчик сделался похож на гигантского спеленутого младенца. Он судорожно открывал рот, испуганно глотал воздух, пытался что-то сказать, глаза его страшно пучились. Потом мальчик издал короткий булькающий стон, сухо захрустело тело, и на обложку книги плеснула кровь. Выглядело это так, словно кто-то могучими руками отжал мокрую тряпку.
Я смотрел и не мог заставить себя отвернуться. Впал в странное оцепенение — не удавалось даже и моргнуть, не то что управлять руками.
Простыни отшвырнули, размазав о толстое стекло, бесформенные останки ребенка и тут же сморщились, ужались обратно до состояния страниц. Книга раскрылась на заднем форзаце — и я увидел, как на нем вздулась, словно набухшее брюшко сытого клеща, диковинная печать.
Камера еще чуть пофиксировала в абсолютной тишине эту странную сцену: мятый до состояния комка бумаги труп мальчика с выпавшими глазными яблоками и подрагивающая рядом книга. А потом ролик оборвался.
Я еще немного посидел в своем удобном кресле. Потом машинально захлопнул ноутбук и встал. Дошел, шатаясь, до кровати, присел — и меня вырвало чем-то зеленым прямо на пол.
***
Мир заполняли черные буквы, танцующие по белому полю. И все вокруг меня было лаконично, контурно и фрагментарно. Я смотрел на сообщение от Агапова и не вполне понимал, читаю ли я его на дисплее ноутбука или просто в воздухе.
«Я понял механику, — сообщал мне Петр Семенович. — Книга употребляет ребенка, потом появляется штамп. Такая у этого, ну, пусть «организма» первая фаза жизни. Затем она, уже проштампованная, в рамках стратегии коллективного выживания побуждает взрослого накормить ребенком книгу, у которой все еще нет оттиска. Книгу, которая сама не смогла раздобыть себе еду. Потрясающе! Спасибо за участие, вы невероятно помогли. И заранее поздравляю: вас теперь ждут великие дела, эксперимент еще не завершен».
Я чувствовал себя настолько паршиво, что до конца не смог понять написанное. Вроде бы выходило так, что и моя книга когда-то употребила ребенка — какого? Мишкину дочку? кого-то еще? — и на ней появился штамп. Этим штампом она и привлекла меня. Я, получается, ее читал, что-то себе придумывал, а в итоге щелк — и так вот буднично и мимоходом помог скормить ребенка еще одной книге.
Гипотеза Агапова казалась безумной — надо же, эволюционно стабильная стратегия городской страшилки, самособравшаяся книга, коллективное выживание, влияние на рассудок… абсурд! Концы не сходились с концами, чего-то не хватало. Но я видел ролик, чувствовал, что что-то за последние недели извернулось в моей голове.
Я помнил, что раньше меня волновало еще что-то, кроме красных книг и детей, но никак не мог вспомнить, что именно.
«Боже, я будто стал персонажем страшилки, потерял объем». Мысль пробилась сквозь пелену отупения и тут же растворилась в бесконечном желтовато-белом пространстве, покрытом длинными черными рядами… рядами чего?
Припомнились странные слова: «Он стал каким-то плоскостным, не исхудавшим, а точно без объема». Но я не смог опознать, кто и когда мне их говорил.
А потом я сидел и бессмысленно пялился в телефон — удалял фотографии какой-то незнакомой девушки и не понимал, откуда они вообще у меня взялись. В голове было пусто, и от этого я чувствовал себя неплохо.
Ночью я услышал настойчивый зов. Вышел на кухню и увидел там мою возлюбленную — прекрасную красную книгу. Она была открыта на заднем форзаце и чуть потрясывалась. Штамп пульсировал и источал сладкий запах портящегося мяса. Я сел на пол и с восторгом принялся наблюдать за вершащимся таинством.
Штамп дергался и рос. И вот я уже смог наконец-то понять, что же изображено на выпуклом рисунке. Книга, точно такая же красная книга! Только сейчас она меньше всего походила на обычный оттиск — казалось, что это настоящий маленький томик, живой, пульсирующий и прижимающийся ко внутренней поверхности штампа. Как плод к амниотическому мешку.
Тем временем штамп разросся и торчал над форзацем книги, будто надувшийся изнутри воздушный шарик. Через мгновение пузырь вскрылся с мягким хлопком — на пол выпала новорожденная красная книжонка. Новенькая, пахнущая мясом и типографской краской, с синезубым мужиком на обложке, очень маленькая — со спичечный коробок.
Тут же из разверзшейся щели на форзаце вывалилась еще одна, а после и еще. Из краев рваной дырки на пол стекала вязкая прозрачная жидкость. И маленькие тома падали на нее с приятным плеском. Пространство вокруг заполнял удивительный звук, точно вибрировали сотни камертонов. Получалась словно бы траурная музыка, и играла она нарочито громко, как будто бы специально.
Я открыл одну из новых красных книг на последней странице — форзац был девственно чист, никакого штампа. Разумеется, ни один ребенок ведь еще не был ей употреблен.
«Вот она, третья стадия. Размножение, — с удовлетворением подумал я. — Как естественно и просто сошлись с концами все концы».
В дверь забарабанили. Я с раздражением встал. Вибрирующий воздух будто полнился ватой, и я шел через нее, как ледокол.
На пороге стояла соседка из квартиры этажом ниже, глаза у нее были заплаканные и безумные, красное лицо перечеркивали глубокие морщины.
— Сыночек мой исчез, солнце мое пропало, колокольчик мой, а у вас дискотека с сатанинской музыкой, наркоманы! — Визг тетки пиликнул по ушам, я раздраженно развернулся и пошел обратно на кухню.
— Куда, стоять! — Женщина рванула за мной неловкой толстой рысью. — Я сейчас полицию позову!
Она ворвалась на кухню, готовая разорять логово сатанистов и наркоманов, и замерла, увидев распахнутую книгу, остатки прозрачного пузыря, могучую лужу и трепыхающиеся в ней маленькие красные томики. Тетка открыла рот, намереваясь что-то сказать, но я со всей силы ударил ее по затылку сковородкой. Я бил еще и еще, покуда голова не треснула. Полезло что-то блестящее и бугристое, будто огромный пирожок разорвало изнутри от напора влажной мясной начинки.
Я собрал с пола новорожденные томики. Они были еще теплыми, чуть мокрыми, мягкими и трогательно уязвимыми. Я высыпал их на вывалившееся из обломков головы соседки месиво. Книжечки зашевелились и слепо потянулись к красно-бурой кашице.
Когда книги, насытившись, раздулись до нормальных размеров, я лег на них всем телом и принялся баюкать, согревая. Мне казалось, что я гигантская курица-наседка, а книжки — мои красные цыплята.
***
«Все понятно, мне это приснилось, — с облегчением подумал я, поднимаясь утром с кровати. — Штампы, дети, выживание легенд, безумные филологи, лопнувшая соседка. Какая же дикость, сожрал, что ли, чего-то на ночь?»
Кухня блистала первозданной чистотой.
«Откуда книги? — чуть позже задался я вопросом, обнаружив возле холодильника стопку идеально новых, как будто еще по-типографски влажных десятых томов собрания Успенского. — Ах, да, кажется, купил у букиниста на подарки. Как там его? Лаврентий, что ли, человек с замечательной женой…»
«Какой сегодня день? — думал я, обуваясь. — А впрочем, без разницы. Главное, что прекрасный!»
Я вышел в подъезд, насвистывая веселый мотив. Чуть пахло краской. Настроение было отличным, и чувствовал я себя превосходно. Около горшка с растениями обнаружилась неровная лужа — опять работа песика детворы из соседской квартиры.
Я решительно стукнул в дверь. Раздался лай.
Открыл мальчик в красных шортиках. Он удивленно вытаращил на меня огромные зеленые глазенки.
— Ма! Тут соседский дядя зашел, — крикнул он куда-то в глубину квартиры, потом добавил, обращаясь уже ко мне: — Это вы из-за Люка нашего? Он опять описался? Простите! Он всегда за мной в подъезд выбегает, когда в школу иду… Я все уберу.
— Ничего страшного, — сказал я и добродушно потрепал мальчишку по волосам. — Вот тебе, держи.
Я протянул аккуратный сверток.
— А чего это? — спросил удивленно мой маленький сосед. — Зачем?
— Книжка. Вам с сестренкой понравится, — безмятежно сказал я и, не дожидаясь появления его матери, зашагал к лифту.
В большой спортивной сумке лежали еще девять красных книг. Я достал блокнот со списком и прикинул, которая из квартир с ребенком ближайшая. Выходило, что на пятом этаже. В памяти всплыла какая-то картина: вроде бы мусорные баки, кто-то плачет, что-то омерзительно журчит, но я, недоумевая, прогнал наваждение.
Я нажал кнопку вызова лифта и задумался о том, что же мне нужно будет купить в магазине, когда закончу обход.
Что-то прорвалось сквозь окружавшую мое сознание стену и тонко-тонко завопило: «Езжай на первый, уходи из дома, купи веревку, добудь яд, найди лезвие, убей себя, пока не поздно, убей, убей». На мгновение в памяти всплыл непонятный образ: пустующая кухня с большим черным пятном на стене — от снятой газовой колонки? — и в самом углу комнаты куча горелого красного картона.
Перед глазами потемнело, и я резко оперся рукой об стену. И тут же отдернул ладонь: поверхность оказалась влажной, липкой, темно-зеленой и свежеокрашенной — коммунальщики наконец-то замазали следы недавнего вандализма. Я потряс головой, разгоняя скопившийся в ней туман, и успокоился.
Разъехались, хрустя, двери лифта, я шагнул внутрь.
Я потянулся к кнопке этажа и обнаружил, что пальцы мои стали зелеными. Посмотрел на них, что-то вспыхнуло на самом краешке сознания и немедленно погасло.
И тут я понял, что именно следует купить: пирожков, чудесных толстых пирожков. На рынке, из пышущего паром ведра, и непременно с самым сладким мясом. Как же приятно было наконец осознать, чего же мне в этой жизни не хватало!
Я нажал на кнопку, и лифт, дернувшись, помчал меня на пятый этаж.
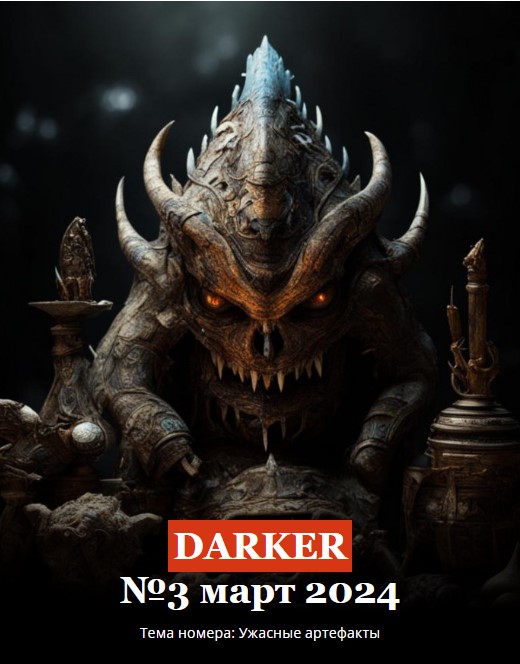


1 tsvoff 12-06-2021 09:58
Я как чувствовал, что с этим Успенским что-то не то! )
)
2 Аноним 10-06-2021 23:24
Круто!