Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила.
А. Пушкин
— Прекрасный Юноша, о чем ты задумался так глубоко? — спросила Старуха, у которой Юноша снимал комнату.
Она тихо вошла вечером в его полутемную комнату и, еле слышно шелестя по крашеному буро-красною краскою неровному полу мягкими туфлями, приблизилась к Юноше и стала у его плеча. Он вздрогнул от неожиданности, — уже с полчаса стоял он у единственного окна своего тесного покойчика в верхнем жилье старого дома и, не отрываясь, смотрел на лежащий перед ним прекрасный Сад, где цвело множество растений, благоухающих нежно, сладко и странно.
Отвечая Старухе, Юноша сказал:
— Нет, Старая, я ни о чем не думаю. Я стою, смотрю и жду.
Старуха укоризненно покачала седою головою, и узлы ее темного платка закачались, как два остро-поднятые кверху, настороженные уха. Ее морщинистое лицо, более желтое и сухое, чем у других старых женщин, живших на той же улице, на окраине громадного Старого Города, выражало теперь озабоченность и тревогу. Старуха молвила тихо и печально:
— Жаль мне тебя, милый Юноша.
Голос ее, хотя уже и старчески хриплый, звучал такою печалью, таким искренним состраданием, и ее уже бесцветные от старости глаза глядели так скорбно, что Юноше, в полумраке его покоя вдруг, на одно короткое мгновение, показалось, что эти внешние признаки старости — только удачно надетая личина, и за нею скрывается молодая и прекрасная Жена, еще недавно только испытавшая пронзающую сердце скорбь Матери, оплакавшей погибшего Сына. Но прошло это странное мгновение, и Юноша улыбнулся своей чудной мечте. Он спросил:
— Почему тебе жаль меня, Старая?
Старуха стала рядом с ним, посмотрела в окно на Сад, прекрасный и цветущий, и весь осиянный лучами заходящего солнца, и сказала:
— Мне жаль тебя, милый Юноша, потому что я знаю, куда ты смотришь и чего ты ждешь. Мне жаль тебя и твоей матери.
Может быть, от этих слов, а может быть, от чего-нибудь иного, что-то изменилось в настроении Юноши. Сад, цветущий и благоухающий за высоким забором под его окном, вдруг показался ему почему-то странным, и темное чувство, похожее на внезапный страх, жутким замиранием остановилось у его сердца, точно рожденное пряными и томными ароматами, исходящими от ярких внизу цветов.
«Что же это?» — подумал он в недоумении. Он не хотел поддаваться темному очарованию вечерней тоски, — сделал над собою усилие, улыбнулся весело, быстрым движением сильной руки откинул с высокого лба прядь черных волос и спросил:
— Что же, Старая, страшного и нехорошего в том, на что я смотрю и чего я жду? И почем ты знаешь, чего я жду?
И в эту минуту он был веселый, смелый, прекрасный, и черные глаза его пылали, и румяные щеки его рдели, и алые, яркие губы его казались сейчас только поцелованными, и из-за них сверкали крепкие, белые зубы, веселые, злые.
Старуха говорила:
— Вот, милый Юноша, ты смотришь на Сад и не знаешь, что это — злой Сад. Вот ты ожидаешь Красавицу и не знаешь, что красота ее пагубна. Два года прожил ты в моей комнате и ни разу не засматривался так, как сегодня. Видно, и твой черед настал. Пока еще не поздно, отойди от окна, не дыши злым дыханием этих коварных цветов и не жди, чтобы под окно твое пришла чаровать Красавица. Она придет, она зачарует, и ты пойдешь за нею, куда не хочешь.
Говоря так, Старуха зажгла две свечи на столе, где лежали книги, захлопнула окно и задернула у окна занавеску. С легким скрежетом провлеклись по медному пруту кольца, заколыхалось и легло опять спокойно желтое полотно занавески, — и в комнате стало весело, уютно и спокойно. И казалось, что нет за окном Сада, и нет в мире очарований, и все просто, обычно, установлено раз навсегда.
— А и правда, — сказал Юноша, — я никогда не обращал внимания на этот Сад и сегодня только в первый раз увидел Красавицу.
— Уже увидел, — печально сказала Старуха. — Уже упало в твою душу злое семя очарования.
А Юноша говорил не то Старухе, не то рассуждая сам с собою:
— Да раньше и некогда было. Днем — на лекциях в университете, вечером — за книгами или с веселыми товарищами и милыми девушками на вечеринке или в театре, где-нибудь на галерке, а то так и в партере по студенческой контрамарке, когда платной публики мало: антрепренеры нас любят, мы хлопаем усердно и кричим, вызывая актрис, пока не погасят всех огней. Летом уедешь к родителям. Так, только слышал, что рядом великолепный Сад нашего профессора, знаменитого Ботаника.
— Потому и знаменитый, что черту душу продал, — сердито сказала Старуха.
Студент рассмеялся весело.
— А все-таки, — сказал он, — мне странно, что я никогда до сегодняшнего вечера не видел его дочери, хотя и слышал много об ее дивной красоте и о том, что многие знатные юноши Старого Города и из других мест, близких и дальних, добивались ее любви, и надеялись, и обманывались, а иные и умирали, не стерпев ее холодности.
— Она — коварная, — сказала Старуха. — Она знает цену своим чарам и показывается не всем. Нищему студенту трудно свести с нею знакомство. Отец обучил ее многому, чего и ученые не знают, но на ваши сходки она не ходит. Она больше с богатыми, от которых можно ждать многих подарков.
— Старая, сегодня я хорошо видел ее, и мне кажется, — возражал Юноша, — что девица с таким прекрасным лицом, с такими непорочно-ясными глазами, с такими изысканно-грациозными манерами и одетая так красиво не может быть коварною и корыстною и гнаться за подарками. Я твердо решил, что познакомлюсь с нею. Сегодня же пойду к Ботанику.
— Ботаник тебя и на порог не пустит. Его слуга о тебе и докладывать не пойдет, как увидит твою поношенную одежонку.
— Что ему за дело до моей одежды! — с досадою сказал Юноша.
— Да вот, разве если бы ты на крылатом змее приехал, так, пожалуй, пустили бы, и на твои заплаты не поглядели бы.
Юноша засмеялся и воскликнул весело:
— Что ж, Старая, и крылатого змея оседлаю, коли иначе туда не попасть будет!
Старуха ворчала:
— Да уж от ваших забастовок добра не ждать. Учились бы смирно, и все было бы хорошо. И тебе бы не было никакой печали до этой хитрой Красавицы и до ее страшного Сада.
— Что страшного в ее Саду? — спросил Юноша. — А не бастовать нам никак нельзя было: наши права и права университета нарушены, — неужели же мы смиренно подчинимся?
— Юноши должны учиться, — ворчала Старуха, — а не права разбирать. А ты, милый Юноша, прежде чем с Красавицей знакомиться, в ее Сад вглядись хорошенько из окошка, завтра утром, при свете солнца, когда все видно ясно и верно. Ты увидишь, что в этом саду нет цветов, которые здесь всем знакомы, а цветов, какие там есть, никто у нас в Городе не знает. Подумай-ка об этом хорошенько, ведь это неспроста. Бес коварен, не его ли это создания на пагубу людям?
— Это — растения чужестранные, — сказал Юноша, — они привезены из жарких стран, где все иначе.
Но уже Старуха не хотела больше разговаривать. Она досадливо махнула рукою и, шамая туфлями, сердито и неразборчиво бормоча неласковые слова, вышла из комнаты.
Первым побуждением Юноши было подойти к окну, отдернуть желтое полотно занавески и опять смотреть в очаровательный сад и ждать. Но помешали: пришел Товарищ, шумный, нескладный молодой человек, и позвал Юношу идти в место, где они часто собирались, чтобы говорить много, спорить, и шуметь, и смеяться. По дороге Товарищ, смеясь, негодуя, размахивая руками больше, чем бы следовало, рассказывал Юноше о том, что происходило сегодня утром в аудиториях и в университетских коридорах, как были сорваны все лекции, как были посрамлены противники забастовки, какие прекрасные слова говорили любимые хорошие профессоры, и как смешно вели себя профессоры нелюбимые, и значит, нехорошие.
Юноша провел интересный вечер. Говорил, волнуясь, как все. Слушал искренние и горячие речи. Смотрел на товарищей, лица которых выражали и беззаботную смелость молодости, и ее пламенное негодование. Видел девушек, милых, умных, скромных, и мечтал о том, что из их веселого круга изберет себе подругу. И почти забыл о Красавице в очаровательном Саду.
Вернулся домой поздно и заснул крепко.
Утром, когда он открыл глаза и когда взор его упал на желтое полотно занавески у окна, показалось ему, что ее желтизна окрашена багрянцем темного желания и что в ней есть какая-то странная и жуткая напряженность. Казалось, что солнце настойчиво и страстно упирает свои жгучие и горькие лучи в это пронизанное золотым светом полотно, и зовет, и требует, и волнует. И в ответ этой удивительной внешней напряженности золота и багрянца огненною живостью наполнились жилы Юноши, упругою силою налились его мускулы, и сердце его стало, как родник ярых пожаров. Пронизанный сладко миллионами живящих, и горящих, и возбуждающих игол, вскочил он с постели и с ребяческим веселым хохотом, не одеваясь, принялся прыгать и плясать по комнате.
Привлеченная необычным шумом, заглянула в дверь Старая хозяйка. Покачала укоризненно головою и ворчливо сказала:
— Милый Юноша, пляшешь и радуешься, и всех беспокоишь, а чему рад, и сам не знаешь, и не ведаешь, кто стоит под твоим окошком и что она тебе готовит.
Юноша смутился и стал тих и скромен, как раньше, что и согласно было с его характером, и соответствовало прекрасному воспитанию, полученному им дома. Он умылся старательнее обычного, оттого, может быть, что не надо было сегодня спешить на лекции, а может быть, и по иной причине, и с таким же тщанием оделся, причем долго чистил свою изрядно уже поношенную одежду: новой у него не было, так как родители его были небогаты и не могли присылать ему много денег.
Потом подошел он к окну. Сердце его забилось тревожно, когда он отдернул желтое полотно занавески.
Очаровательно-прекрасное зрелище открылось перед ним, — хотя сегодня он сразу заметил, что есть что-то странное во всем виде этого обширного, превосходно расположенного Сада. Что именно его удивляло, еще он сразу не понял и внимательно стал рассматривать Сад.
Что же было неприятного в его красоте? Отчего так больно замирало сердце Юноши?
То ли, что все в очаровательном Саду было слишком правильно? Дорожки разбиты прямо, все одинаковой ширины и однообразно усыпаны ровным слоем желтого песку; растения рассажены с тщательною порядливостью; деревья подрезаны в виде шаров, конусов и цилиндров; цветы подобраны по тонам, так что сочетание их ласкало глаз, но почему-то ранило душу.
Но, рассуждая здраво, что же неприятного в том порядке, который свидетельствует, что кто-то неусыпно заботится о Саде?
Нет, не в этом, конечно, была причина странного беспокойства, томившего Юношу. В чем-то другом, еще непонятном Юноше.
Одно было несомненно, что этот Сад не был похож ни на один из тех садов, которые довелось на своем веку повидать Юноше. Он видел здесь цветы громадные и слишком яркой окраски, — порою казалось, что разноцветные огни пылали среди буйной зелени, — бурые и черные стебли ползучих растений, толстые, как тропические змеи, — листья странной формы и непомерной величины, зелень которых казалась неестественно яркою. Пряные и томные ароматы легкими волнами вливались в открытое окно, вздохи ванили, и ладана, и горького миндаля, сладкие и горькие, торжественные и печальные, как ликующая погребальная мистерия.
Юноша чувствовал на своем лице нежные, но бодрящие прикосновения легкого ветра. В саду же, казалось, ветер не имел силы и в изнеможении улегся на спокойно зеленой траве и в тени под кустами странных насаждений. И оттого, что деревья и травы странного Сада были бездыханно тихи, и не слышали тихо веющего над ними ветра, и ничем не отвечали ему, они казались неживыми. А потому лживыми, злыми, враждебными человеку.
Впрочем, одно из растений шевелилось. Но, вглядевшись, Юноша засмеялся. То, что он принял за безлиственный ствол странного растения, был человек небольшого роста, тощий, одетый весь в черном. Он стоял перед кустом с ярко-пурпурными цветами, потом медленно пошел по дорожке, опираясь на толстую палку и приближаясь к тому окну, из которого глядел Юноша.
Не столько по лицу, которое, будучи прикрыто широкими полями черной шляпы, только отчасти было видно сверху, сколько по манерам и походке Юноша узнал Ботаника. Не желая показаться нескромным, Юноша немного отодвинулся от окна в глубину комнаты. Но вдруг увидел он, что навстречу Ботанику шла Красавица, его юная дочь.
Ее нагие руки были подняты к сложенным на голове черным косам, потому что в это время она вкалывала в волосы ярко-пунцовый цветок. Ее легкое, короткое, открытое платье было застегнуто на одном плече золотою пряжкою. Стройные, белые ноги были обуты в золоченые сандалии и обвиты широкими розовыми лентами.
Сердце Юноши забилось, он забыл всякую осторожность и скромность, опять бросился к окну и жадно глядел на милое видение. Красавица кинула в его сторону быстрый, пламенный взгляд, — синие из-под черных ровных бровей сверкнули очи, — и улыбнулась нежно и лукаво.
Если бывают люди счастливы, если светит им порою безумное солнце радости, сладким кружением восторга унося в запредельные страны, — то где слова, чтобы сказать об этом? И если есть на свете красота для очарований, то как описать ее?
Но вот остановилась Красавица, пристально посмотрела на Юношу и засмеялась радостно и весело, — и в несказанном кружении восторга забыл Юноша о всем, что есть на свете, стремительно наклонился из окна и закричал голосом, звонким от волнения:
— Милая! Прекрасная! Божественная! Приди ко мне! Люби меня!
Красавица подошла близко, и Юноша услышал тихо-звенящий, ясный голос, каждый звук которого сладкою мукою ранил его сердце:
— Милый Юноша, знаешь ли ты цену моей любви?
— Хотя бы ценою жизни! — восклицал Юноша. — Хотя бы у темных ворот Смерти!
Ее лицо было бело, ее щеки были румяны, ее глаза были сини, ее уста были алы, — зарею пылающею и смеющеюся стояла она перед Юношею и простирала к нему стройные, обнаженные руки. И говорила, и веял от ее слов аромат обольстительный и томный, как вздохи нежной туберозы:
— О, милый Юноша, мудрый и страстный, ты знаешь, ты видишь, ты дождешься. Многие любили меня, многие жаждали обладать мною, прекрасные, юные, сильные, многим улыбалась я улыбкою обаятельною, как улыбка последней утешительницы, но никогда никому до тебя не говорила я сладких и страшных слов: люблю тебя. Теперь хочу и жду.
Страстью и желанием звенел ее голос. Она отвязала от пояса шелковый черный шнурок с бронзовым на нем ключом и уже взмахнула рукою, чтобы бросить ключ Юноше, но не успела. Отец уже спешил к ней, заметив еще издали, что она заговорила с незнакомым Юношею. Он грубо схватил ее за руку, отнял от нее ключ и закричал хриплым старческим голосом, противным, как тяжелое карканье старого ворона на кладбище:
— Безумная, что ты хочешь сделать? Не о чем тебе с ним говорить. Этот Юноша не из рода тех, для кого взрастили мы наш Сад, смешав соки этих растений с ядовитою смолою Анчара. Не для таких, как этот голяк, погиб наш предок, надышавшись тлетворным ароматом страшной смолы. Иди, иди домой и не смей говорить с ним.
Старик повлек дочь к дому, видневшемуся в глубине Сада, крепко сжимая ее руки, обе захватив одною своею рукою. Красавица покорно шла за отцом и смеялась. И был смех ее ясен, звонок, сладок, и жалил тысячами острых жал пламенеющее сердце Юноши.
Он еще долго стоял у окна, долго всматривался напряженными глазами в расчисленные и расчищенные дали очарованного Сада. Но уже Красавица больше не показывалась. Все тихо и недвижно было в дивном Саду, и бездыханными казались чудовищно-яркие цветы, и от них доходил до Юноши аромат, кружащий голову и жутким томлением сжимающий сердце, — аромат, напоминающий темные, стремительные, жадные вздохи ванили, цикламена, датуры и тубероз, злых несчастных цветов, умирающих умерщвляя, чарующих смертною тайною.
Юноша твердо решился проникнуть в дивный Сад, надышаться таинственными ароматами, которыми дышит Красавица, и добиться ее любви, хотя бы ценою за нее была жизнь, хотя бы путем к ней был путь смертный, путь безвозвратный. Но кто бы помог ему проникнуть в дом старого Ботаника?
Юноша ушел из дому. Долго ходил он по Городу и всех, кого знал, расспрашивал о Красавице, дочери Ботаника. Одни не могли, другие не хотели ввести его в дом старого Ботаника, и о Красавице все говорили недоброжелательно.
Товарищ ему сказал:
— Все молодые Оптиматы Города влюбляются в нее и хвалят ее изысканную и утонченную красоту. Нам же, Пролетариям, ее красота ненавистна и не нужна: ее мертвая улыбка нас раздражает, и безумие, затаившееся в синеве ее глаз, нам противно.
Девушка, вторя ему, говорила:
— Ее красота, о которой говорят много праздные и богатые юноши, вовсе даже и не красота на наш взгляд. Это — мертвая красивость разложения и упадка. Я думаю даже, что она румянится и белится. От нее пахнет, как от ядовитого цветка; даже дыхание у нее ароматно, и это противно.
Популярный Профессор говорил:
— Коллега Ботаник — знаменитый и ученый человек; но он не хочет подчинять свою науку высоким интересам гуманности. Его дочь, говорят, очаровательна; некоторые говорят об оригинальности ее костюмов и манер; впрочем, я не имел случая беседовать с нею более или менее обстоятельно; притом же в нашем кругу ее редко можно встретить. Думаю, однако, что ее очарования заключают в себе нечто вредное для здоровья, — до меня дошли странные слухи, за достоверность которых, конечно, я не ручаюсь, слухи о том, что процент смертности среди посещающих этот дом молодых аристократов выше среднего.
Аббат, с тонкою улыбкою на бритом бледном лице, сказал:
— Когда Красавица приходит ко мне в церковь, она молится слишком усердно. Можно подумать, что она замаливает тяжелые грехи. Но я уверен, что нам не доведется увидеть ее в шерстяной сорочке кающейся грешницы.
Мать, выславши из комнаты всех дочерей, сказала:
— Я не понимаю, что в ней находят привлекательного. На нее разоряются, она кокетничает, разбивает сердца юношей, отнимает женихов от невест, а сама никого не любит. Я не позволяю моим милым дочкам, Миночке, Линочке, Диночке, Ниночке, Риночке, Тиночке и Зиночке, вести с нею знакомство. Они у меня такие скромные, милые, любезные, веселые, приветливые, прилежные, такие хозяйки, такие рукодельницы. И как мне ни жаль расставаться с ними, но, так и быть, старшенькую я выдала бы замуж за такого скромного юношу, как вы.
Юноша ушел поспешно. Семь сестриц улыбались ему из окна, теснясь одна за другою. Это было зрелище милое и приятное, но сердце Юноши полно было сладкими, жуткими мечтами о Красавице.
* * *
Старый Ботаник привел свою дочь в дом. Его гнев смягчился, и хотя он до самого порога не выпускал из своей руки с большими костлявыми пальцами сложенных вместе тонких рук весело улыбающейся Красавицы, но уже он не жал их так больно и не толкал ее так грубо. Его лицо было печально. Он выпустил руки своей дочери, и она сама послушно вошла за ним в его кабинет — огромную, мрачную комнату, стены которой были загромождены полками с множеством книг, громадных, запыленных.
Ботаник сел в обитое темною кожею кресло у своего тяжелого дубового стола. Он казался усталым. Прикрыл глаза, еще юношески блестящие, пергаментно-желтою, дрожащею рукою и укоризненно смотрел из-под руки на дочь. Красавица стала на колени у его ног, и смотрела снизу в лицо старого Ботаника, и улыбалась нежно и покорно. Она стояла прямо, с опущенными руками, и в позе ее была смиренная покорность, и в улыбке обольстительных уст было нежное упрямство. Лицо ее казалось побледневшим, и казалось, что на губах ее зыбко пламенеет безумие смеха и что в синеве ее глаз затаилось безумие тоски. Молчала и ждала, что скажет отец.
И он сказал медленно, словно с трудом находя слова:
— Милая, что же я слышал? Не ждал я от тебя этого. Зачем ты это сделала?
Красавица склонила голову и сказала тихо и печально:
— Отец, рано или поздно это же должно совершиться.
— Рано или поздно? — спросил отец, как бы с удивлением. И продолжал: — так пусть это лучше совершится поздно, чем рано.
— Я пламенею, — тихо сказала Красавица.
И улыбка на ее устах была как отблеск знойного пылания, и в глазах ее затаились синие молнии, и ее обнаженные плечи и руки были как тонкий алебастровый сосуд, наполненный расплавленным металлом. Порывисто дышала высокая грудь, и две белые волны рвались из тесных объятий ее платья, нежный цвет которого напоминал желтоватую розовость персика. Из-под складок недлинной одежды были видны трепетно лежащие на темно-зеленом бархате ковра стройные ноги, обвитые розовыми лентами золоченых сандалий.
Отец тихо покачал головою и сказал печально и строго:
— Ты, милая дочь, столь опытная и столь искусная в дивном умении чаровать, оставаясь непорочною, должна знать, что еще рано тебе отходить от меня и бросать недовершенный мой замысел.
— Но ведь этому не будет конца? — возразила Красавица. — Они приходят вновь и вновь.
— Никто не знает, — сказал Ботаник, — будет ли этому конец и увидим ли мы завершение нашего замысла или передадим его иным поколениям. Но мы сделаем, что можем. Вспомни, что сейчас должен прийти к тебе молодой Граф. Ты поцелуешь его, — но не более, — и дашь ему отравленный цветок по его выбору. И он уйдет, полный сладких надежд и трепетных ожиданий, — и опять свершится и над ним неизбежное.
Выражение покорности и скуки легло на лицо Красавицы.
— Иди, — сказал отец.
Наклонился, поцеловал ее в лоб. Красавица прильнула знойно-алыми губами к его морщинистой желтой руке, прижалась к его сухим коленям белою полуобнаженною грудью, вздохнула и встала. И вздох ее был как свирельный стон.
Через полчаса Красавица, нежно улыбаясь, говорила молодому, красивому, надменному Графу, стоя перед ним среди Сада, у круглой клумбы с яркими, громадными цветами, от которых исходил одуряющий аромат:
— Милый Граф, вы хотите очень многого. Желания ваши слишком пылки и слишком нетерпеливы.
Улыбка ее была так же нежна и лукава, и непорочно-ясные взоры ее с ласковым любованием скользили по стройной фигуре молодого Графа и по его богатому наряду, сшитому модно и красиво из самых дорогих тканей и украшенному золотом и самоцветными камнями.
— Милая очаровательница, — говорил Граф, — я знаю, что вы были холодны ко многим, искавшим вашей благосклонности. Но ко мне вы будете более ласковы. Я сумею добиться вашей любви. Клянусь честью, я заставлю потемнеть от страсти холодную синеву ваших глаз.
— Чем же вы стяжаете мою любовь? — спросила Красавица.
Непроницаемо было выражение ее прекрасного лица, и ее голос не обличал того волнения, которое легко овладевает девами, когда они слышат знойный голос внушенной ими страсти.
Но самоуверенный, надменный Граф не смутился. Он говорил:
— От предков моих досталось мне немало сокровищ, и я сам, золотом и отвагою, приумножил их. Много у меня драгоценных камней, перстней, ожерелий, запястий, восточных тканей и ароматов, арабских коней, шелковых и атласных одежд, редкого оружия, и другого много, чего и перечислить скоро не сумею, чего даже не сразу и вспомню. Все я рассыплю у твоих ног, очаровательница, — рубинами оплачу я твои улыбки, жемчугами — твои слезы, золотом — твои ароматные вздохи, алмазами — твои поцелуи и ударом верного кинжала — твою лукавую измену.
Красавица засмеялась. Сказала:
— Еще я не ваша, а уже вы боитесь моей измены и угрожаете мне. Ведь я могу и рассердиться на это.
Граф порывисто склонил перед Красавицею колени и осыпал поцелуями ее руки, гибкие и стройные, от нежной кожи которых подымалось легкое, жуткое благоухание.
— Простите моему безумию, очаровательная Красавица, — молил он, вдруг забывши всю свою надменность, — любовь к вам лишает меня покоя и подсказывает мне дикие поступки и странные слова. Но что же мне делать! Я люблю вас больше, чем мою душу, и за обладание вами готов заплатить не только моими сокровищами, не только моею жизнью, но и тем, что дороже мне жизни и спасения души, — моею честью!
Красавица сказала очаровательно ласково:
— Ваши слова тронули меня, милый Граф. Встаньте. Я не возьму с вас непомерно большой платы за мою любовь, — она не покупается и не продается. Но кто любит, тот должен уметь подождать немного. Истинная, верная любовь всегда найдет путь к сердцу возлюбленной.
Граф поднялся. Изысканным жестом он оправил кружевные манжеты своего атласного зеленого кафтана и устремил на Красавицу долгий, восторженный взор. Глаза их встретились, и непроницаемо по-прежнему было выражение непорочно светлых глаз Красавицы.
Охваченный смутною тревогою, которая в минуты смертной опасности одолевает даже надменных и самоуверенных, Граф отошел от Красавицы. На скамье недалеко лежал красиво изукрашенный дубовый ларец. Граф открыл его и с почтительным поклоном поднес Красавице.
Солнечные лучи веселым смехом задрожали на бриллиантах и рубинах диадемы. И казалось надменному Графу, что сияние и смех падают на многоценные камни от рдеющих уст Красавицы. Но улыбка ее была такая же, как и раньше, и она любовалась подарком как малоценным, хотя и приятным знаком внимания. Потом на миг опечалилась легко, отуманилась и сказала:
— Мои предки были рабами, а ты даришь мне диадему, от которой не отказалась бы и царица.
— Очаровательница! — воскликнул Граф, — ты достойна и еще более блистающей диадемы.
Красавица улыбнулась ему приветливо и опять опечалилась легко, отуманилась и говорила тихо:
— Доля моих предков — горячие капли крови под бичами жестоких, а мне — торжественные рубины увенчанной радости.
И совсем, совсем тихо шепнула:
— Но не забуду.
— Что же вспоминать о давно минувшем! — воскликнул Граф. — Радостны дни светлой юности, а печаль воспоминаний оставим старости.
Красавица засмеялась, отгоняя смехом грусть, мгновенную, как тучка, тающая на летнем солнце. Сказала Графу:
— За ваш прекрасный подарок, милый Граф, я дам вам сегодня один цветок по вашему выбору и один поцелуй. Только один.
Молодой Граф пришел в такой восторг и выражал его так стремительно и шумно, что Красавица повторила нежно и строго:
— Только один, не более.
И спросила Графа:
— Какой цветок хотите вы, милый Граф, получить от меня?
Граф ответил:
— Прекрасная обольстительница, что вы мне ни дадите, за все я буду вам несказанно благодарен.
Улыбаясь, говорила Красавица:
— Все цветы, которые вы здесь видите, милый Граф, привезены издалека. Они собраны с большим трудом и даже с опасностями. Прилежным уходом отец мой улучшил их форму, и окраску, и аромат. Долго изучал он их свойства, пересаживал их, скрещивал, прививал и наконец достиг того, что из бедных, диких, некрасивых полевых и лесных цветочков образовались эти очаровательные, благоуханные цветы.
— И самый очаровательный цветок — вы, милая Красавица! — воскликнул Граф.
Красавица легко вздохнула и продолжала:
— Аромат их многие находят слишком крепким и одуряющим. И я замечаю, что вы, милый Граф, бледнеете, — мы с вами слишком долго пробыли среди этих знойных ароматов. Я-то привыкла, я с детства надышалась ими, и самая кровь моя пропитана их сладкими испарениями. А вам не следует слишком долго стоять здесь. Выбирайте скорее, какой цветок вы хотите взять от меня.
Но молодой Граф настаивал, чтобы Красавица сама выбрала ему цветок, — он ждал с нетерпением ее второго подарка, обещанного поцелуя — первого ее поцелуя. Красавица посмотрела на цветы. Лицо ее омрачилось опять легкою тенью печали. Вдруг быстро, словно движимая чужою волею, она протянула руку, столь прекрасную в своей обнаженной стройности, и сорвала белый махровый цветок. Замедлила руку, склонила голову и наконец с выражением застенчивой нерешительности приблизилась к Графу и вложила цветок в петлицу его кафтана.
Аромат сильный и резкий пахнул в побледневшее лицо молодого Графа, и в томном бессилии закружилась его голова. Равнодушие и усталость овладели им. Едва помнил себя, едва чувствовал, как взяла его Красавица под руку и увела в дом, от ароматов дивного Сада.
В одной из комнат дома, где все было светло, бело и розово, Граф очнулся. Юношеская свежесть вернулась на его лицо, черные глаза его зажглись опять страстью, и он снова почувствовал радость жизни и буйство желаний. Но уже подстерегало его неизбежное. Белая рука, нагая, стройная, легла на его шею, и ароматный поцелуй Красавицы был нежен, сладок, долог. Две синие молнии ее глаз блеснули близко перед его глазами и призакрылись тихою тайною длинных ресниц. Жуткие огни сладкой боли вихрем закружились вокруг сердца молодого Графа. Он поднял руки обнять Красавицу, — но с легким криком она отшатнулась и, легкая, тихая, убежала, оставив его одного. Граф бросился было за нею. Но в дверях розовой горницы встретил его старый Ботаник. Язвительна была улыбка его тонких губ, алою чертою разрезавших пергаментно-желтое лицо. Граф смутился. С несвойственным ему замешательством, чувствуя во всем теле странную слабость, простился он со старым Ботаником и ушел.
Жуткие вихри сладкой боли все быстрее кружились вокруг сердца молодого Графа, когда он ехал домой верхом на вороном арабском скакуне, еле слыша звонкий стук подков о камни.
Все бледнее становилось его лицо. Вдруг глаза его сомкнулись, рука опустила поводья, и он тяжело склонился, падая с седла. Испуганный конь взвился на дыбы, сбросил седока и помчался. Графа подняли уже мертвым, с разбитою о камни головою. И не знали, отчего он умер. Дивились, — такой был искусный наездник.
* * *
Настала ночь. Сладко и тревожно светила полная луна, ворожа и чаруя лучами холодными, могильно-тихими. Смутным страхом полно было сердце Юноши, когда он подошел к своему окну. Рука его, захватив край желтой занавески, долго медлила и колебалась, прежде чем он решился не спеша отвести в сторону занавеску. Медленно свиваясь, шуршало желтое полотно, и шелест его сходен был со змеиным еле слышным свистом в лесной заросли; и тихо звенели и скрежетали о медный прут медные легкие кольца.
Красавица стояла под окном, и смотрела на окно, и ждала. И сердце Юноши дрогнуло, и не мог он понять, страхом или восторгом томилось его сердце.
Черные косы Красавицы были распущены и падали на ее нагие плечи. Резкая тень лежала на земле рядом с нею. Освещенная сбоку луною, стояла она, подобная резкому, отчетливому видению. Та половина ее лица, которая была освещена луною, и ее плеча, ее руки были мертвенно-белы, как белый цвет ее туники. Складки белой туники были строги и темны. Темна была синева глаз Красавицы, загадочна была ее неподвижная улыбка. На странной успокоенности ее тела и ее одежды тускло поблескивала гладкая матовая пряжка, застегнутая на плече.
Заговорила тихо, и амброю, мускусом и туберозою благоухали ее слова, звенящие, как тонкие серебряные цепи у зажженного кадила.
— Милый Юноша, я люблю тебя. Повинуясь твоему призыву, я нарушила волю моего отца и пришла к тебе, чтобы сказать: бойся меня и моих чар, беги от этого Старого Города далеко, а меня оставь моей темной судьбе, меня, упоенную злым дыханием Анчара.
— О, прекрасная! — отвечал ей Юноша, — ты, которую я едва узнал и которая уже для меня дороже моей жизни и моей души, — зачем говоришь ты мне эти жестокие слова? Или ты не веришь моей любви, которая зажглась внезапно, но уже не погаснет?
— Я люблю тебя, — повторила Красавица, — и не хочу тебя погубить. Дыхание мое напитано ядом, и прекрасный Сад мой отравлен. Тебе первому я говорю это, потому что я люблю тебя. Торопись же оставить этот Город, беги от этого Сада с его тлетворною красотою, беги далеко и забудь обо мне.
Упоенный восторгом и печалью, сладчайшею всех земных радостей, Юноша воскликнул:
— Возлюбленная моя! Что же мне от тебя надо? Не одного ли мгновения жаждет моя душа! Сгореть в блаженном пламени восторга и любви и у сладчайших ног твоих умереть!
Легкий трепет пробежал по телу Красавицы, и вся она стала как ясная радость зари за белым туманом. Торжественным, широким движением подняла она свои белые нагие руки, и вся стремилась к Юноше, и говорила:
— О, возлюбленный мой! Так будет, как ты хочешь, и с тобою умереть мне сладко. Иди же ко мне, в мой страшный Сад, и я расскажу тебе мою темную повесть.
Опять, как утром, в руке ее блеснул бронзовый ключ на розовой ленте. Засмеялась, — резво, как мальчик, отбежала назад, мелькая на желтом песке дорожки белизною стройных ног, — размахнулась быстро и ловко, — и метнула ключ в окно. Юноша протянул руки и на лету схватил ключ.
— Милый, я жду, я жду! — повторяла Красавица.
* * *
Там, в отравленном Саду, под сенью таинственных растений, где неживая луна смешивала отраву своей тоски с ядовитым дыханием земных злых цветов, стояли они, Юноша и Красавица, упоенные восторгом и печалью. Они глядели в глаза друг другу, и Красавица голосом, звенящим, как хрупкий голос клавесина, говорила:
— Мои предки были рабами, — но и рабы жаждут свободы. Повинуясь повелению господина, один из моих предков совершил утомительно долгий путь, чтобы достигнуть пустыни, где растет Анчар. Он собрал ядовитую смолу Анчара и принес ее господину. Отравленные стрелы доставили господину немало побед. А мой предок, надышавшийся злых благоуханий, умер. Его вдова задумала отомстить злому роду победителей. Она воровала отравленные стрелы, мочила их в воде и, как многоценное вино, прятала эти настои в глубоких подвалах. Каплю настоя вливала она в бочку воды и этою водою поливала пустырь на краю Старого Города, где теперь наш дом и этот Сад. Потом брала каплю воды со дна этой бочки, вмешивала ее в хлеб и кормила им своего сына. И стала почва этого Сада отравленною, и сыну своему привила она яд. И с того времени весь род наш, из поколения в поколение, питался ядом. И ныне в жилах наших течет пламенеющая ядом кровь, и дыхание наше ароматно, но пагубно, и кто целует нас, тот умирает. И не слабеет сила нашего яда, пока живем мы в этом отравленном Саду, пока мы дышим ароматами этих чудовищных цветов. Семена их привезены издалека, — мой дед и мой отец были везде, где можно достать злые и вредные людям растения, — и здесь, в этой издавна отравленной почве, эти злые, эти пагубные цветы раскрыли всю свою гневную силу. Благоухая так сладко, так радостно, они, коварные, и росу, падающую с неба, претворяют в гибельную отраву.
Так говорила Красавица, и радостно звенел ее голос, и лицо ее пылало великим ликованием. Кончила рассказ и засмеялась тихо и невесело. Юноша склонился перед нею и молча целовал ее руки, вдыхая томительное благоухание мирры, алоэ и мускуса, веявшее от ее тела и от ее тонкой одежды. Красавица заговорила опять:
— Приходят ко мне потомки угнетателей, потому что чарует их моя злая, моя отравленная красота. Я улыбаюсь им, обреченным смерти, и каждого из них мне жаль, а иных я почти любила, но не отдавалась никогда никому. Только одним поцелуем дарила я каждого, — поцелуи мои были невинны, как поцелуи нежной сестры. И тот, кого я целовала, умирал.
Ужасом смерти и несказанным восторгом, одновременно двумя столь несходными страстями томилась душа смущенного Юноши. Но любовь, побеждающая все, преодолевающая даже и томления предсмертной тоски, победила и ныне. Восторженно простирая к нежной и страшной Красавице трепетные руки, воскликнул Юноша:
— Если в поцелуе твоем смерть, о, возлюбленная, дай мне упиться неисчислимостью смертей! Прильни ко мне, целуй меня, люби меня, обвей меня сладостным ароматом твоего отравленного дыхания, смерть за смертью вливай в мое тело и в мою душу, пока не разрушишь все, что было мною!
— Ты хочешь! Ты не боишься! — воскликнула Красавица.
Бледное в лучах неживой луны лицо Красавицы стало как матовый светоч, и были трепетны и сини молнии ее печальных и радостных глаз. Движением доверчивым, нежным, страстным она прильнула к Юноше, и ее нагие, стройные руки обвились вокруг его шеи.
— Мы умрем вместе! — шептала она. — Мы умрем вместе. Весь яд моего сердца пламенеет, и огненные струи стремятся по моим жилам, и я вся как объятый великим пламенем костер.
— Я пламенею! — шептал Юноша. — Я сгораю в твоих объятиях, и мы с тобою — два пламенные костра, пылающие великим восторгом отравленной любви.
Тускнела и падала печальная, неживая луна, — и черная ночь пришла и стала на страже. Тайну любви и поцелуев, ароматных и отравленных, осенила она мраком и тишиною. И слушала согласный стук двух замирающих сердец, и в чутком молчании сторожила последние легкие вздохи.
Так в отравленном Саду, надышавшись ароматами, которыми дышала Красавица, и упившись сладкою ее любовью, жалящею нежно и смертельно, умер прекрасный Юноша, — и на груди его умерла Красавица, сладким очарованиям ночи и любви предав свою отравленную, но благоухающую душу.
1908
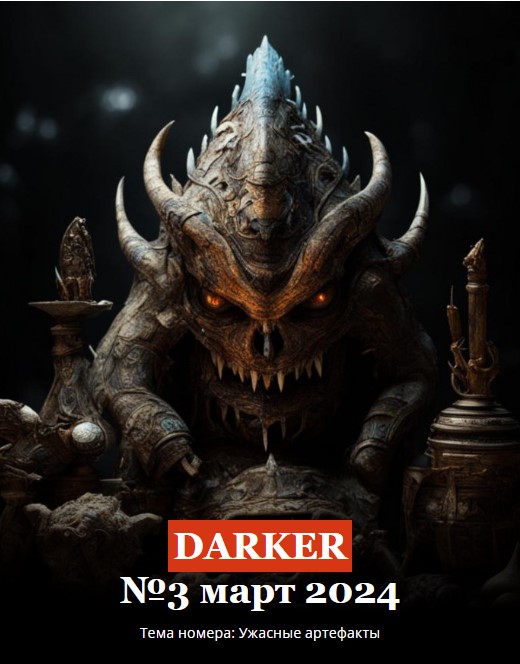


Комментариев: 0 RSS