Цветан Тодоров в своей монографии «Введение в фантастическую литературу» писал: «Поэзия фантастической не бывает… [Исследователь не выделяет самостоятельного жанра хоррор, но все же можно предположить, что сказанное им характерно и для страшных стихотворений]. Обычно поэтический дискурс обнаруживает себя через многочисленные вторичные признаки, и нам сразу становится понятно, что в данном тексте не следует искать фантастическое; рифмы, регулярность размера, эмоциональность дискурса уводят нас в сторону от него».
Иными словами, поэзия слишком аллегорична, чтобы видеть в ней конкретно то, о чем она конкретно говорит. Поэтическое слово означает не то, что оно означает: поэтическое слово – это (говорю с придыханием) метафора. Казалось бы, справедливо: все-таки лермонтовский «Демон» и «Шесть демонов Эмили Роуз» – вещи невероятно далекие друг от друга. Вот только…
На помосте валяются трупы,
Между ими хлещет кровь ручьями,
Как потоки осени дождливой.
Он идет, шагая через трупы,
Кровь по щиколку ему досягает...
И дальше:
Бусурмане на короля наскочили,
Донага всего его раздели,
Атаганом ему кожу вспороли,
Стали драть руками и зубами,
Обнажили мясо и жилы,
И до самых костей ободрали,
И одели кожею Радивоя.
Брр, какой кошмар! И сочинил его не кто-нибудь, а светило русской поэзии, Александр Сергеевич Пушкин! Причем если данный отрывок еще как-то можно привязать к историческим событиям, то следующий эпизод – явный (и всем нам уже знакомый) вымысел:
Там могилу прохожего разрыли,
Видят, — труп румяный и свежий, —
Ногти выросли, как вороньи когти,
А лицо обросло бородою,
Алой кровью вымазаны губы, —
Полна крови глубокая могила.
Но, скажут, «Песни западных славян» просто стилизация, просто слабость Пушкина, решившего на досуге отдохнуть от единственно правильной любовной лирики. Как же тогда быть с его «Утопленником» («Тятя! тятя! наши сети / Притащили мертвеца»), с его «Морозом трескучим» («С костями груды пепла тлеют, / На кольях, скорчась, мертвецы / Оцепенелые чернеют...»), с его «И дале мы пошли» («Порыв отчаянья я внял в их вопле диком; / Стекло их резало, впивалось в тело им – / А бесы прыгали в веселии великом»)? Да тот же «Пир во время чумы»:
Поминутно мертвых носят,
И стенания живых
Боязливо бога просят
Упокоить души их!
Поминутно места надо,
И могилы меж собой,
Как испуганное стадо,
Жмутся тесной чередой!
Неужели Пушкину не было важно, чтобы мы почувствовали в этих строчках сверхъестественный ужас, чтобы у нас коленки дрожали от этой безумной, полной гниющих трупов картины? Видеть в его поэзии сугубо социальные или любовные мотивы – значит лишать ее подлинного очарования, быть варваром и ханжой.
Стремление Пушкина к таинственному и непознанному несложно объяснить, если вспомнить, кто был его учителем. Василий Андреевич Жуковский щекотал читателям нервишки не хуже заправского хорроррайтера двадцать первого века! Чего стоит финал «Лесного царя»:
Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок подгоняет, ездок доскакал...
В руках его мертвый младенец лежал.
Вязкой, тягучей атмосферой дышит поэма «Светлана»: в крещенский вечер девушка нагадала себе встречу с суженным и отправилась с ним на прогулку, которая, увы, обернулась путешествием вне времени и пространства: лунные заснеженные поля, церкви с черными гробами, мрачные избушки и мертвецы... А что хуже всего – мертвецом оказывается суженный Светланы!
Смолкло все опять кругом...
Вот Светлане мнится,
Что под белым полотном
Мертвый шевелится...
Сорвался покров; мертвец
(Лик мрачнее ночи)
Виден весь – на лбу венец,
Затворены очи.
Если копнем глубже, то обнаружим, что и Державину не чуждо было воспевание кошмарного. Начало стихотворения «На выздоровление мецената» дает нам возможность лицезреть прибытие Харона, угрюмого и безжалостного старика:
Кровавая луна блистала
Чрез покровенный ночью лес…
<…>
Тогда по брегу раздалися
Надгробный плач и вой людей,
Отвсюду к старику сошлися
Бесчисленны толпы теней;
Прискорбны, бледны и безгласны,
Они, потупя взоры, шли;
Цепями фурии ужасны
К морскому брегу их вели.
Поистине плодотворной оказалась хаотичная ломка эпох: Серебряный век подарил русской литературе множество шедевров черной поэзии. Особенно буйствовали символисты, и среди них – Бальмонт. Его апокалиптичные картины надолго остаются в памяти, будь то «При море Черном» («При Море черном стоят столбы. / Столбы из камня. Число их восемь. / Приходят часто сюда рабы. / И сонмы юных несут гробы. / Бледнеют зимы. И шепчет осень») или «Домой» («Растратив дни, / Задув огни, / Ушли мы прочь / От света в ночь. / И вот прибой / Нам шлет гурьбой / Могильный рой: – / В гроба! Домой!»), или «Смертью – смерть» («И вот уж стены сдвинулись так тесно, / Что груда этих стиснутых рабов, / В чудовище одно слилась чудесно, / С безумным сонмом ликов и голов, / Одно в своем различьи повсеместно»).
Впечатляет и баллада о жестокой красавице-убийце «Замок Джен Вальмор»:
Она одна, окружена
Тенями ей убитых.
Дыханий много пьет она
Из этих трав излитых.
В ней – осень, ей нужна весна
Восторгов ядовитых.
– и еще большее восхищение вызывают «Опричники»:
Когда невинных жгли и рвали по суставам,
Перетирали их цепями пополам,
И в добавленье к царственным забавам,
На жен и дев ниспосылали срам, –
Когда, облив шута горячею водою,
Его добил ножом освирепевший царь, –
На небесах, своею чередою,
Созвездья улыбалися как встарь.
К слову, Бальмонт высоко ценил талант Эдгара Алана По и занимался переводом не только его прославленного «Ворона», но и других, наполненных темной меланхолией стихотворений:
Здесь Смерть себе воздвигла трон,
Здесь город, призрачный, как сон,
Стоит в уединеньи странном,
Вдали на Западе туманном…
(Город на море)
Она здесь вековечно спит,
Меж тем как рой теней скользит,
И духи в саванах из дыма
Идут, дрожа, проходят мимо.
(Спящая)
С колокольни кто-то крикнул, кто-то громко говорит,
Кто-то черный там стоит,
И хохочет, и гремит,
И гудит, гудит, гудит,
К колокольне припадает,
Гулкий колокол качает,
Гулкий колокол рыдает,
Стонет в воздухе немом
И протяжно возвещает о покое гробовом.
(Колокольчики и колокола)
Еще один американец, которого мы хорошо знаем, также не чурался лирики для выражения космического ужаса: стихи Говарда Филипса Лавкрафта1 пугают не меньше его прозы. Невообразимых монстров рисует писатель в «Озере кошмаров»:
Там бродит жуткий мертвый дух,
Чей шаг не различим на слух
<…>
Я видел вязкий длинный брег
И тех, кто топи не избег:
Рептилий, в муках смерти ждущих,
Вампиров, воронов гниющих –
Над мертвецами же парил
Злой образ трупоедов крыл.
А вот как выглядит урбанистический макабр в стихотворении «Кошки»:
К самому небу вздымаются башни,
Тщетных каналов бурленье внизу;
Плесень с отравой кирпич точит влажный,
Смерти огни полыхают вовсю.
И, конечно же, англичане не были бы англичанами, если бы не писали стихотворные истории о таинственном и ужасном. Явная аллегоричность «Сказания о Старом Мореходе» Сэмюэла Тейлора Кольриджа вовсе не мешает наслаждаться жутким кораблем призраков:
Сын брата моего стоял
Плечо к плечу со мной.
Один тянули мы канат,
Но был он – труп немой.2
Однако поэзия ужасов – это не только фантомы. Наравне с изящной лирикой о сверхъестественном существует настоящий стихотворный треш, этакий сплаттерпанк для мясников-поэтов. Лучший образец подобного – творчество немецкого автора Готфрида Бенна3: его «Астрочка» («Покойник с пивным животом на секционном столе. / Кто-то сунул ему маленькую / Серо-буро-малиновую / Астрочку в зубы»), его «Родильный дом» («Зачатьем заново распята – / На ржавый гвоздь, – / Лежит, разъята, / Колени врозь»), его «Над могилами» («Теперь разгрызли кость клыки кабаньи – / И прах, где надо, прахом и пропах») вызывают странные ощущение: не то глубокую скорбь, не то рвотные позывы. Вершина жестокости Бенна – стихотворение «Ведет ее по раковым баракам»:
– Вон в том ряду лежат, кто снизу сгнил.
А в том ряду лежат, кто сгнил в середке.
Сиделок через час меняем. Вонь!
<...>
– Из той, что с краю, хлещет в три ручья.
Откуда столько крови в человеке?
А той, правей, вдобавок ко всему,
Еще сначала выскоблили двойню.
<...>
– Похоже на распаханное поле:
Плоть превратилась в почву. Пышет жаром.
Сочится, изловчившись, сок. Земля зовет.
Обращение к страшным, пугающим мотивам было необходимо для поэтов всех времен и народов. И хотя со школьной скамьи нас учат, что лирика есть только гражданская, философская и любовная, не стоит забывать о не менее важном: мистическое понимание бытия – черта многих творцов, ибо зачастую они видят материи, не доступные обывательскому глазу.
Настоящее эссе является не введением и даже не предисловием, а только маленькой-маленькой аннотацией к огромному труду, который, надеюсь, будет когда-нибудь написан и будет посвящен стихотворному хоррору во всем его многообразии.
Примечания:
1 Пер. Д. Попова.
2 Пер. В. Левика.
3 Пер. В. Топорова.
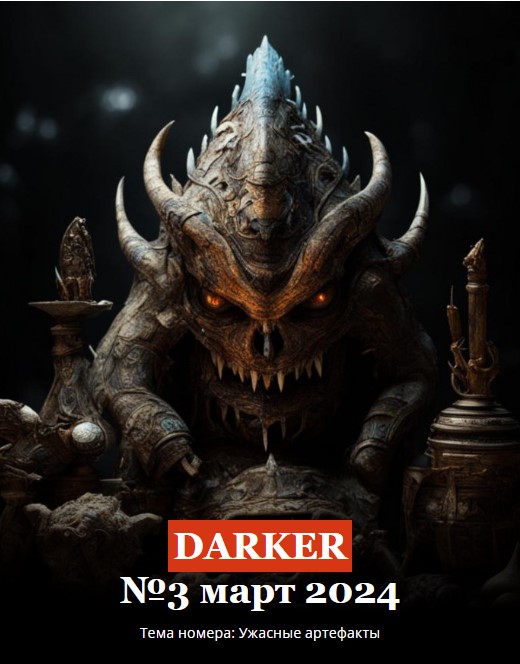


Комментариев: 0 RSS