
Rhys Hughes, “Confessions of a Medicated Lurker”, 2016 ©
Некоторые городки спланированы архитекторами так, что улицы и дома расположены вполне логично, но большинство разрастаются с ходом столетий. Никто не знает, был ли Холстенвалль творением одного или многих людей или сам дал метастазы, превратившись в нынешнее хитросплетение углов.
Если это творение одного ума, то он совершенно помрачился. Если над городком работала команда, безумие оказалось заразным.
Я тоже болен. Мне так сказали.
Я в это верю. Как можно сомневаться? Я и сам доктор, целитель рассудка. Я соглашаюсь с диагнозом.
Лекарства редко помогают против безумия. Этот недуг — не болезнь тела. Сумасшествие — ответ разума, открывшего величие вселенной и неспособного ее постичь. Существование — слишком тяжкий груз для наших душ, непосильная задача. Жить — это все равно, что производить интегральные вычисления на счетах. Естественно, костяшки хотят свихнуться. Излечить безумие значит исцелить реальность и опровергнуть истину.
В Холстенвалле нет кривых линий.
Сейчас я не говорю о людях, гуляющих по его мостовым, о горбатых стариках и пышногрудых девицах. Они все — сплошные изгибы, обрамленные острыми как ножи углами, резкими, словно бросок копья, поворотами улиц, комнатами с неестественной перспективой, стрелами перекрещенных фонарей.
Без кривых только овалы…
Знаете, как долго я прожил в этом городке? Спрашиваю, потому что понятия не имею, как и никто из моих братьев по несчастью или санитаров. Но я уверен, что родился не здесь. Наверное, приехал издалека, из более просторного и светлого места.
Холстенвалль сложился внутрь. Так я думаю. Его углы и сгибы — лишь искусственное подобие прежней жизни. Он словно морщится, глядя на свое отражение — в паутину трещин.
Большинство вещей горбится под тяжестью времени. Только не этот город. Холстенвалль складывается гармошкой, улицы становятся уже, дома жмутся друг к другу, потолки падают, а полы поднимаются. Я стою прямо.
Но я стар, вернее, чувствую себя стариком.
У меня остались только смутные воспоминания о лучших днях — пациентах, их оскалах и судорогах. Я работал с новыми лекарствами, способными успокоить нервы и смирить буйных.
Иногда дозы были фатальными и покой переходил в ступор, но разве можно меня винить? Я был экспериментатором. Делал все, что мог, на благо человечества.
Теперь мне дают мои самые успешные лекарства.
Все чувства онемели, словно под толстым слоем бинтов. Разум слаб, дни и ночи проходят прежде, чем я замечаю. Розовый свет проникает в окно и окрашивает западную стену палаты. Я моргаю, и углы меняются. Уже не утро, но глубокий вечер. Слишком много жизни потеряно в подобных лакунах. Я утопаю в лекарствах, застываю, гляжу — только это у меня и выходит.
Один местный больной был замотан в бинты словно мумия. От темени до пят. Писал на них карандашом поток чуши, которую считал дневником.
Я так и не узнал, как он выглядел. Когда он умер, санитары распеленали его, и бинты сошли вместе с кожей. Никаких примет не осталось. Мне разрешили присутствовать на вскрытии из уважения к профессии. Облегчением было увидеть изгиб его ребер. Они не походили на улицы и комнаты Холстенвалля, жуткие, как шахматная доска.
Ортогональные траектории сталкиваются, открывая темные щели.
Ирония, если это она, состоит в том, что бедняга писал дневник на бинтах. Когда его распеленали, слова распались, и в результате все запуталось еще больше. Чушь в квадрате. Чтобы восстановить дневник, нужно было забинтовать его снова, как раньше, соединить верхние и нижние половинки букв.
Бинты сожгли во дворе в железной бочке. Концы трепетали, вырываясь из огня, словно моля прочесть прежде, чем они превратятся в золу, но кому под силу столь хаотичный шифр?
Помню, каким черным был дым, как болезнь поднималась к небу.
Шифр, по счастливому или несчастливому совпадению, моя фамилия. Я уверен, что никого в городке так не зовут. Антон Шифр. Еще одно доказательство, что я не местный.
Из уважения и отеческих чувств мне дали лучшую палату в лечебнице, как только я попросил. На верхнем этаже с окном, до которого можно дотянуться. Я часто гляжу из него.
Внизу — оранжереи.
Садоводство — терапия для безумцев. Пробовали ли вы помидор, выращенный руками душевнобольного? Он не такой, как другие. В нем чувствуется привкус опасности. Обезуметь может каждый, словно предупреждает он. Даже вы.
Вытрите пальцы салфеткой. Они всегда перезрелые…
Я не решил, превращает ли людей в лунатиков геометрия Холстенвалля, или это ненормальные жители ответственны за углы, вплетая тангенсы помраченного ума в изнанку реальности. Но что такое реальность?
Лежа на жесткой койке, я презираю луну.
На спине в кромешной тьме я могу спать, но когда в окно сочится бледный луч, открывается истинная форма моей тюрьмы — в миг, для этого не предназначенный. Далекие часы бьют полночь. Безумие!
Я смотрю в жуткий угол, появившийся там, где стены встречаются с потолком. Не могу отвести глаз.
Три линии тонут в тени, как должно, но я знаю, что за этим последует. Внезапная смена перспективы, вогнутое становится выпуклым, и я уже не в палате, а снаружи, смотрю на внешний угол.
За пределами комнаты, где лежит мое тело. За гранью человеческой геометрии.
Вне себя, вне того, кто вышел наружу. Вот почему я никогда не поправлюсь.
Во всем виноват Холстенвалль. Слишком много измерений, смертельных петель в паутине углов. Они затягиваются на наших шеях. Нас обманули. Меня обдурили.
Одурманенный дурень.
Расползающееся безумие должно вылиться в нечто особенное. Я не хочу знать, во что. Давление в черепе слишком огромно. Холстенвалль отверг меня, но вместо того, чтобы изгнать в земли разума за своими стенами, скрыл в самом сердце. Я не могу здесь находиться и потому стал пленником.
Это невыносимо. Я больше не выдержу. Действительно, час настал.
Вы скоро поймете, о чем я.
Мне нужно сделать признание. Во имя науки я вызывал у пациентов судороги, отпечатывал на лицах вечные ухмылки. Потрясал несчастных, превращая их больные, полные ужаса головы, в костяшки гигантских счетов. Затем попробовал произвести вычисления. Ради шутки, из тщеславия, играя в бога.
Я вшил в человека собаку, чтобы настоящий лающий ужас отвлек его от воображаемых страхов.
Я смотрел, как акробат перепрыгивает с крыши на крышу с помощью шеста. Выстрелил в него из лука, просто потому, что он меня раздражал. Стрела сломала шест в зените огромного прыжка, внутренности расплескались по булыжникам, а я продолжил вводить кислоту пациенту. Выстрел был прекрасным, и я не чувствовал вины. До сего дня. Компетентность не нуждается в угрызениях.
Я сочинил памфлет, доказывающий, что тубы лучше скрипок.
Я проводил тантрическую терапию с пациентками.
Я гулял по округе — приводил в чувство сомнамбул, раздавая пощечины огромной мертвой рыбой. Она гнила, но я не сдавался. Говорят, что внезапно разбудив сомнамбулу, можно его убить. Заявляю, что умерли не все. Один даже решил, что двойной пощечиной я вызвал его на дуэль, и согласился.
Меня поместили в это заведение прежде, чем заря назначенного дня зажглась над полем славы. Пистолеты не разрядились. Я не разрядился. Ребра рыбы оказались прямыми.
Бесконечное превращение вогнутого в выпуклое, наизнанку и обратно. Я больше так не могу.
Остается только одно лекарство.
У меня здесь есть привилегии. Я это знаю. Ни у кого больше нет окна, из которого можно выпрыгнуть. Разгоняюсь. Удар. Осколки стекла, как лучи взрывающейся звезды. Каждый из них — случайный снимок Холстенвалля.
Городок разбивается, как окно или несколько окон, образующих зеркальный лабиринт, отражающихся друг в друге до бесконечности. Он застывает, глядит на себя, сквозь себя и видит нас.
Возвращайтесь, доктор Калигари!
Я пробиваю крышу оранжереи.
В горах гремит гром без дождя — прокатывается по безжалостно острым, узким, стонущим улицам. Санитары не слышат моего падения. Молния трещит, как битое стекло.
Раны и розы. Лежу на звездах.
Зазубренные прозрачные лезвия встают из изуродованного тела. И все же я спокоен, дурманящие лекарства вытекают вместе с кровью, гаснущий разум на некоторое время проясняется.
Я хочу оставить эти краткие записки. Отблеск жизни. У меня нет ручки или карандаша, нет бумаги или даже бинтов, чтобы писать. Я понимаю, что скорая кончина оставит лишь осколки на осколках. Нужно импровизировать. Пальцы будут ручкой.
Раны станут неиссякаемой чернильницей.
Я напишу на каждой стороне каждого осколка. Возможно, какой-нибудь мастер восстановит стекла и увидит, что они отражают несколько фрагментов моей — или моей прошлой — жизни. Край к краю, уголок к уголку, сложит головоломку кровавых слов и расколотых мыслей.
Говорят, безумцы пишут красным. У меня нет выбора. Нет.
Перевод Катарины Воронцовой
Иллюстрация Ольги Мальчиковой
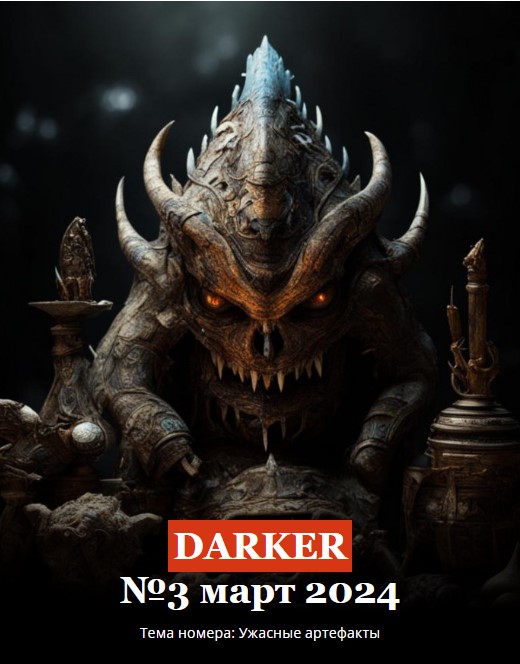


1 Зург 18-05-2020 08:34
Ахинея, честно говоря...