Биографы отшельника из Провиденса хоть и упоминают о его увлечении античностью, но делается это как-то вскользь: как правило, исследователи концентрируются на расовых или политических взглядах Лавкрафта, либо на его отношении к проблемам пола и секса. О его исторических предпочтениях вспоминают реже — и, пожалуй, совершенно зря: любовь Лавкрафта к Древней Греции и Риму плавно переместилась в его творчество, а образы античной мифологии находят свои параллели в персонажах Мифов Ктулху.

Сам Лавкрафт описывает начало своего увлечения так:
Всегда жадный до легенд, я случайно наткнулся на «Книгу чудес» и «Тэнглвудские сказки» Готорна и пришел в восторг от греческих мифов. Затем мое внимание привлекла маленькая книжечка из личной библиотеки моей старшей тети — история об Одиссее, изданная в «Получасовых сериях Гарпера». Она держала меня в напряжении с первой же главы, и к тому времени, когда я дочитал до конца, я уже навеки был греко-римлянином… Как можно скорее я раздобыл иллюстрированное издание «Эпохи мифов» Буллфинча и целиком отдался чтению текста… Скоро я был уже неплохо знаком с основными греческими мифами и стал постоянным посетителем музеев классического искусства Провиденса и Бостона. Я начал коллекционировать маленькие гипсовые слепки греческих шедевров и выучил греческий алфавит и основы латыни… В возрасте примерно семи или восьми лет я был истинным язычником, столь опьяненным красотой Греции, что приобрел почти искреннюю веру в старых богов и природных духов. Я в буквальном смысле воздвиг алтари Пану, Аполлону и Афине и высматривал дриад и сатиров в сумеречных лесах и полях. Раз я твердо поверил, что узрел неких лесных созданий, танцевавших под осенним дубом, — что-то вроде «религиозного опыта», в некотором смысле такого же истинного, что и субъективный экстаз христианина. Если христианин скажет мне, что ему довелось почувствовать реальность своего Иисуса или Иеговы, я могу ответить, что видел Пана на копытах и сестер гесперийской Фаэтусы.
Леон Спрэг де Камп приводит в биографии Лавкрафта его детские фантазии: что у него вытягиваются уши, а изо лба растут рога, что он «огорчался, что его ступни не превратились в копыта». Для всех этих переживаний де Камп подбирает немецкое слово Wundersucht — мистическое чувство реальности магического и сверхъестественного, которое часто возникает в детстве. Сам де Камп полагает, что в юности это чувство испытывают многие, но у большинства оно «умирает под гнетом быта». Но это явно не про Лавкрафта, с его трепетной любовью к воспоминаниям детства, отраженных во множестве его рассказов и писем. Весь мир знает «автора» зловещего «Некрономикона» Абдул Аль-Хазреда — первого из псевдонимов Лавкрафта, придуманного в детстве на волне увлечения «Тысячью и одной ночью». Однако арабов сменят греки с римлянами — и наложат свой отпечаток. Свои детские увлечения Лавкрафт позже проинтерпретирует в духе присущего ему радикализма, а в своих школьных воспоминаниях он напишет:
Когда Рим подавали при мне с невыгодного ракурса — воскресно-школьные ужасы о Нероне и гонениях на христиан — я не испытывал ни капли согласия с учителями. Я чувствовал, что один добрый римский язычник стоит шести дюжин пресмыкающихся ничтожных отбросов общества, ударившихся в фанатичную иноземную веру, и открыто сожалел, что это сирийское суеверие не было сокрушено… Когда дошло до репрессий Марка Аврелия и Диоклетиана, я полностью симпатизировал правительству и ни на йоту — христианскому стаду… в семь лет я носил вымышленное имя Л. Валерий Мессала и пытал воображаемых христиан в амфитеатрах.
Впоследствии увлечение античной мифологией сменилось иными, более «взрослыми» темами. Как пишет сам Лавкрафт:
Я открыл для себя Эгара Аллана По!! То была моя погибель, и в возрасте восьми лет я узрел, как голубые небеса Аргоса и Сицилии померкли от миазматических испарений могилы!
Однако вряд ли испытанный Лавкрафтом в детстве «религиозный экстаз» оставил его. «Миазматических испарений могилы» в греко-римской традиции имелось более чем достаточно — и это нашло свое отражение в творчестве писателя. Такие рассказы, как «Дерево» и «Лунное болото», по сути, являются модернизированной вариацией овидиевских «Метаморфоз» — еще одной любимой книги Лавкрафта. Действие рассказа «Дерево» происходит в Древней Греции и повествует об истории двух скульпторов: мечтательного созерцательного Калоса и беспечного кутилы Мусида. Несмотря на различие характеров, их связывала крепкая дружба, не поколебавшаяся даже после того, как оба приняли заказ на одну и ту же статую. Вскоре после начала работ, Калос чувствует себя все хуже и в конце концов умирает, перед смертью завещав перенести его в любимую оливковую рощу. Там, по слухам, скульптор беседовал с фавнами и дриадами, что стали «натурой» для его прекрасных статуй. Перед смертью Калос завещает положить в изголовье гроба веточки с нескольких олив из рощи. Вскоре после этого Калос умирает — а его безутешный друг продолжает работать над статуей. Меж тем на могиле Калоса вырастает необычайно высокая олива, чья ветвь простирается над крышей дома, где трудился Мусид. В день, когда статуя оказывается готова, над домом разражается гроза, которая обрушивает ветку оливы на дом Мусида. Испуганные горожане, зайдя в дом, обнаруживают мастерскую скульптора разрушенной, а Мусида и статую — таинственно исчезнувшими.
В данный рассказ Лавкрафт, возможно, вложил элементы автобиографии: скульптор, избегающий шумных пирушек, напоминает самого писателя, также демонстративно сторонящегося «плебейских» увеселений. Общение Калоса с нимфами и дриадами, заставляют вспомнить о видениях «лесных созданий» у самого Лавкрафта. Упоминания о нимфах и сатирах, ваяемых с натуры, перекликаются с рассказом Лавкрафта «Модель Пикмана», где еще один талантливый художник, — на этот раз из Бостона, — рисует картины, используя в качестве натуры куда более мерзких созданий. Впрочем, учитывая позднюю увлеченность Лавкрафта Артуром Мейченом, с его «Великим богом Паном», не исключено, что между сатирами античности и вурдалаками новоанглийских кладбищ куда больше общего, чем кажется.
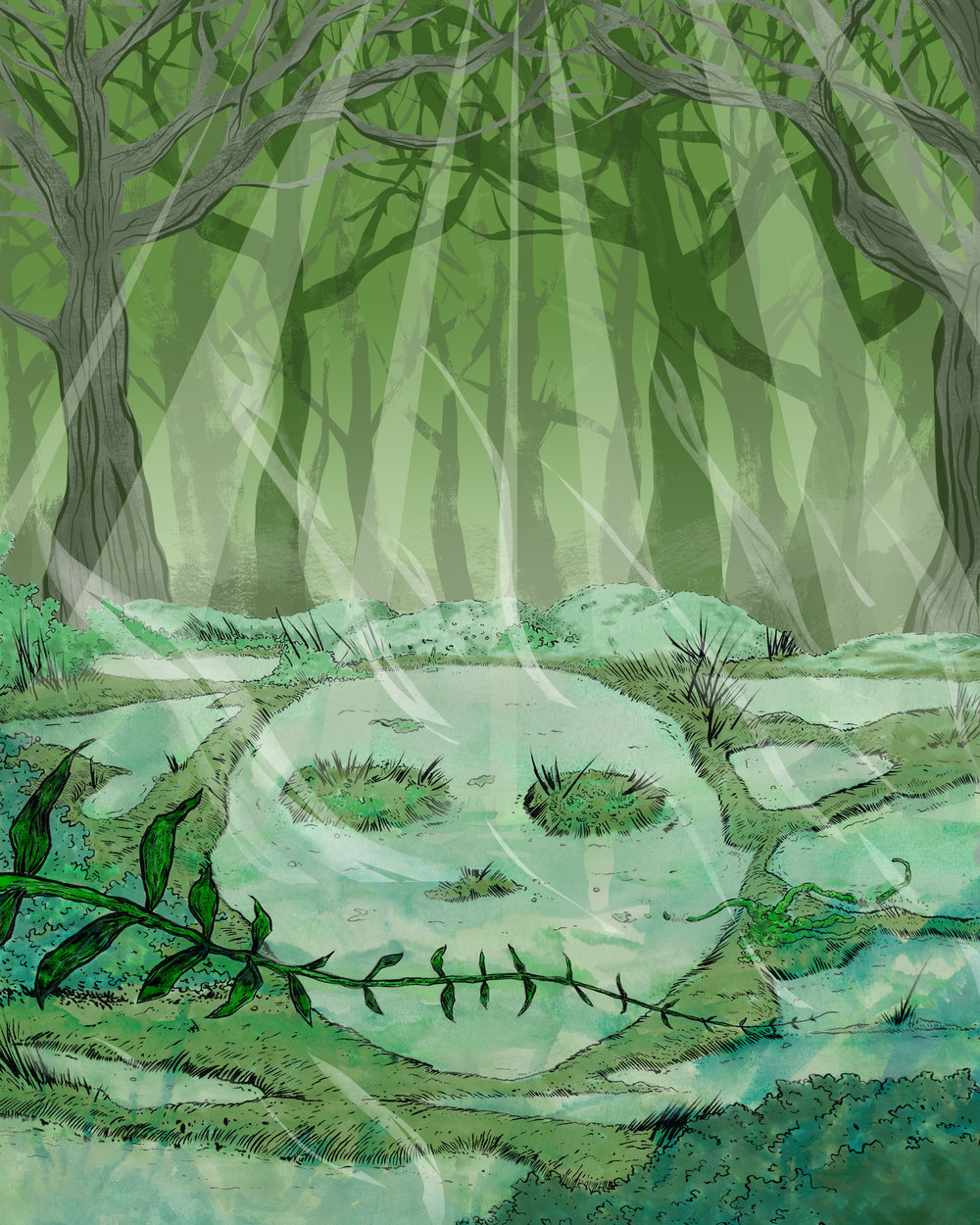
Действие «Лунного болота» происходит в Ирландии — на первый взгляд далекой от античной культуры, однако Лавкрафт обходит это препятствие, искусно сплетая греческую и кельтскую мифологию. В рассказе говорится о переселенцах из Греции, основавших в Ирландии город. Его остатки канули на дно огромного болота, которое и захотел осушить один из героев, унаследовавший замок на краю запретной Топи. В наказание некая мистическая сила лишает всех жителей замка воли, уводя их в болото — которое, доселе безжизненное, вдруг наполняется множеством лягушек. Рассказчик видит во сне «величественный город, посреди зеленой равнины, с улицами и статуями из мрамора». Город этот губит внезапный мор, после чего его поглощают поросшие лесом холмы, «оставив в неприкосновенности только храм Артемиды, в котором почила жрица Луны по имени Клио». Здесь перекличка с «Метаморфозами» проступает еще более явно — как современная вариация неотвратимой кары богов. Упоминание Артемиды, уже превращавшей нарушителей ее уединения в животных, делает античную подоплеку рассказа еще более заметной. А когда рассказчик в самый кульминационный момент «исступленно молится всем богам, которых только помнил из школьного курса классической мифологии — Артемиде, Латоне, Деметре, Персефоне и Плутону», невольно вспоминаешь опять о «детской религиозности» Лавкрафта. Такая ли уж она детская?
Античные сюжеты регулярно всплывают и в иных рассказах Лавкрафта. Это и написанный им в соавторстве с Уиннифрид Джексон «Зеленый луг», где найденная в метеорите «рукопись на древнегреческом языке» повествует о человеке, что предается «нечестивому подражанию древним обрядам» и «поиску новых тайн, разбросанных по страницам демокритовских папирусов». И рассказы «Очень древний народ», «Потомок» и «Ибид», в которых встречается антураж Древнего Рима. Можно вспомнить и «Храм», где Лавкрафт на свой лад интерпретирует легенду о погибшей Атлантиде, и рассказ «Гипнос», где античные мотивы переплелись с «дансейнианскими» экспериментами Лавкрафта. Но особенно символичен рассказ «Поэзия и боги», написанный Лавкрафтом в соавторстве с Анной Хелен Крофтс. В нем повествуется о девушке Марсии, которая за свою увлеченность поэзией была взята живой на гору Парнас, в окружение богов и величайших, с точки зрения Лавкрафта, поэтов — от Гомера до Китса. Рассказ любопытен тем, что именно в нем говорится о «древних богах», — пока еще античных, — которые не умерли, но лишь спят и готовятся проснуться.
Пан уже вздыхает и потягивается перед пробуждением на горе Меналон, где его скоро вновь окружат крошечные фавны в венках из роз и древние сатиры. Ты догадалась о том, что неведомо смертным, что боги никогда не умирали, а только спали и видели божественные сны среди неувядающих лотосов в саду Гесперид, лежащем за вечерней зарей. Ныне близится срок их пробуждения, что положит конец холодному безразличию и душевному уродству в этом мире, и Зевс снова займет свой олимпийский престол.
В персонаже Марсии можно увидеть предтечу некоторых героев Лавкрафта — тонко чувствующих поэтов и художников, — предугадывающих возвращение Великих Древних. В дальнейшем поэтессу Марсию сменит скульптор Генри Уилкокс, а Пана и Зевса — иной, куда более страшный бог. Тоже спящий, но ожидающий скорого пробуждения.
Все названные выше рассказы входят в так называемый Сновидческий цикл: его герои будто и впрямь пребывают в некоем тревожном сне, где утонченная красота сменяется ужасающим кошмаром. Однако в других, более известных рассказах Лавкрафта, акценты расставлены иначе. «Древний ужас» обретает плоть и кровь, свирепо врываясь в современность, доказывая, что его не стоит сбрасывать со счетов даже сейчас.

«Ужас в Ред-Хуке» — один из таких рассказов. Сюжет незамысловат: нью-йоркский детектив Томас Мелоун ведет расследование в районе Ред-Хук. Район представляет собой типичное воплощение расовых фобий Лавкрафта: криминальная клоака, переполненная разномастными иммигрантами. Вот в Ред-Хуке вспыхивает волна похищений детей, и подозрение падает на Роберта Сейдама, наследника старинного голландского рода, интересующимся оккультизмом. Он же занимается нелегальным ввозом иммигрантов, которые в заброшенной католической церкви проводят обряды «жуткой доисторической традиции, возраст которой превосходит возраст человечества». После череды странных и жутких событий, Мэлоун находит в подвале церкви ужасную дверь, которая падает под силой ледяного ветра, увлекающего разум детектива в потаенные подземелья, где творится жуткое действо:
Сатана правил здесь свой Вавилонский бал, и светящиеся, покрытые пятнами разложения руки Лилит были омыты кровью невинных младенцев. Инкубы и суккубы возносили хвалу Великой Матери Гекате, им вторило придурочное блеянье безголовых имбецилов. Козлы плясали под разнузданный пересвист флейт, а эгипаны, оседлав прыгавшие, подобно огромным лягушкам, валуны, гонялись за уродливыми фавнами.
Особенно показательна жуткая молитва, которую читало все это сборище:
О друг и возлюбленный ночи, ты, кому по душе собачий лай (в этом месте адское сборище испустило отвратительный вой) и льющаяся кровь (здесь
последовали душераздирающие вопли вперемешку со звуками, которым нет названия на земле), ты, что крадешься в тени надгробий, (затем, после глубокого свистящего выдоха) ты, что приносишь смертным ужас и взамен берешь кровь, (далее, вслед за короткими, сдавленными воплями, исшедшими из неисчислимого множества глоток) Горго, (и эхом повторенное) Мормо, (и затем в исступлении экстаза) тысячеликая луна, (и на выдохе, в сопровождении флейт) благоволи принять наши скромные подношения!
Заклинание не выдумано Лавкрафтом — его приводит раннехристианский автор Ипполит в своем труде Philosophumena. В оригинале оно звучит так:
Приди, подземная, земная и небесная Бомбо, богиня дорог и перекрестков, приносящая воздух, ходящая ночью, враг света, друг и возлюбленная ночи, радующаяся лаю собак и пролитой крови, бродящая во мраке блуждающим огнем среди могил, жаждущая крови и наводящая ужас на смертных, Горго, Мормо, луна из тысячи обликов, прими благосклонно нашу жертву.
Это обращение к богине колдовства и ночного мрака Гекате (Бомбо — колдовское имя Гекаты; Горго — сокращенное от «Демогоргон»; Мормо — царь вампиров). Из контекста можно сделать вывод, что именно Геката является центральной фигурой культа, пронесшегося через века и мили, чтобы обрести поклонников в Новом Свете.

Другой рассказ, где видны отсылки к античным культам — «Крысы в стенах». Главный герой, потомок старинного английского рода, решает восстановить родовой замок. Выясняется, что с незапамятных времен замок был центром древнего культа, в который римляне привнесли элементы почитания богини Кибелы и ее супруга Атиса.
Мало кто сомневался, что здесь совершались самые жуткие обряды, которые, вероятно, потом влились в культ Кибелы, занесенный римлянами. По сохранившимся на подземной кладке надписям можно было прочитать: «БОЖ... ВЕЛИК... МАТЕ... ТВОРЕ...», что свидетельствовало о культе Великой Матери, следовать которому безуспешно пытались запретить римским гражданам. Как свидетельствуют раскопки, Анкестер был лагерем третьего августианского легиона. Там храм Кибелы процветал и был всегда полон почитателей, исполнявших бесчисленные обряды под руководством фригийского жреца.
Подземный склеп был, по-видимому, построен руками римлян. Низкие арки и массивные столбы были подлинно римскими — не то, что грубые саксонские постройки — гармоничными и стройными, напоминавшими об эпохе цезарей. На стенах было множество описанных археологами надписей, например: «ВЛАД... ВРЕМ... ПРОТИВ... ПОНТИФИК... АТИС...» При упоминании об Атисе я вздрогнул, вспомнив, что читал у Катулла о жутких обрядах в честь этого восточного божества, чей культ был смешан с почитанием Кибелы.
Гай Валерий Катулл, римский поэт времен Цезаря и Цицерона, действительно посвятил один из стихов Кибеле и Атису, конкретизировав детали тех самых «жутких обрядов»:
Чрез моря промчался Аттис на бегущем быстро челне
И едва фригийский берег торопливой тронул стопой,
Лишь вошел он в дебрь богини, в глубь лесной святыни проник,
Он, во власти темной страсти здравый разум свой потеряв,
Сам свои мужские грузы напрочь острым срезал кремнем.
И тотчас узрев, что тело без мужских осталось примет
И что рядом твердь земная свежей кровью окроплена,
Белоснежными руками Аттис вмиг схватила тимпан,
Твой тимпан, о мать Кибела, посвящений тайных глагол,
И девичьим пятиперстьем в бычью кожу стала греметь…
Каннибальский культ из «Крыс в стенах», возможно, мало походил на оригинальный культ Матери Богов — также как и шабаш в «Ужасе Ред-Хука» вряд ли имел много общего с оригинальным культом Гекаты. Но так или иначе, увлечение Лавкрафта античностью в этих рассказах получило свое причудливое и жуткое отражение.
«Крысы в стенах», кроме всего прочего, это первый рассказ Лавкрафта, где упоминается Ньярлатхотеп, Ползучий Хаос, одна из ключевых фигур Мифов Ктулху. И это вплотную нас подводит к вопросу: есть ли взаимосвязь между мифами греков и римлян — и Мифами Ктулху? На первый взгляд, прямых свидетельств немного — однако при ближайшем рассмотрении всплывает ряд моментов, позволяющих эту связь предположить.

Переплетение лавкрафтовского пантеона с античными божествами можно наблюдать в рассказе «Загадочный дом на туманном утесе». Главный герой, посетивший тот самый «загадочный дом», слушает рассказы не менее загадочного хозяина о том, как:
Цари Атлантиды боролись со скользкими богопротивными гадами, выползавшими из расселин на дне. Храм Посейдона, украшенный мраморными колоннами и увитый водорослями, иногда является взору матросов, чьи корабли потерялись. Во времена Титанов царила смута и хаос, еще до всех богов, даже, до Старцев, когда Иные Боги танцевали на вершине горы Хатег-Кла в Ультаре, за рекой Скай.
После в дом является развеселое сборище, представляющее своего рода смягченную вариацию шабаша в Ред-Хуке.
Тут был Нептун с трезубцем в руках, игривые Тритоны и фантастические Нереиды, а дельфины держат на спине огромную раковину с зубчатым краем, в которой ехал мрачный Ноденс, Хозяин Великой Бездны. Коньки, тритоны и Нереиды извлекали странные звуки при ударах по перламутровым раковинам, а Нереиды подняли ужасный шум, стуча в гулкие панцири неведомых морских моллюсков...
Еще один персонаж греческой мифологии, нашедший себе место в лавкрафтианском пантеоне, — Гидра, девятиглавая змея, побежденная Гераклом. В рассказе «Тени над Иннсмутом» Мать Гидра названа, наряду с Дагоном, одним из родителей Глубоководных.

Однако центральный персонаж Мифов Ктулху — собственно сам Ктулху. Не стоит исключать, что на формирование данного образа также повлияла греко-римская мифология. Тем более что и сам Лавкрафт проводит прямые параллели:
Существо что-то бормотало и пускало слюни, как Полифем, посылающий проклятия вслед удаляющемуся кораблю Одиссея. Затем великий Ктулху, многократно более мощный, чем легендарные Циклопы, начал преследование, поднимая гигантские волны своими космическими гребками.
Однако сам Ктулху напоминает не циклопов и титанов, а куда более ужасающих персонажей античной мифологии. Достаточно вспомнить его обличье:
Если я скажу, что в моем воображении, тоже отличающимся экстравагантностью, возникли одновременно образы осьминога, дракона и карикатуры на человека, то, думается, я смогу передать дух изображенного существа.
На ум сразу приходят столь химеричные порождения фантазии древних, как Тифон — чудовищный великан, порожденный Геей и Тартаром. Тифон выше всех гор: его голова задевала звезды, а вместо пальцев у него сто драконьих голов. Ниже пояса — извивающиеся, переплетающиеся друг с другом кольца змей, выше — колоссальное человеческое туловище, покрытое перьями. Схожие персонажи — гекатонхейры, сторукие пятидесятиголовые великаны. Их было трое, причем двое, согласно Гесиоду, проживают в «глубочайших местах Океана». Подводный гигант, с множеством конечностей, пусть и в антропоморфном виде, вызывает невольные ассоциации с чем-то вроде исполинского спрута. Недаром прототипом еще одного многоголового чудовища — Скиллы (дочери Гекаты, по одному из мифов), считается гигантский кальмар. А уж от головоногих до Ктулху рукой подать. Вообще морских чудовищ в греческой мифологии хватает: тут и Кето, богиня, воплощающая «все ужасы моря», и ее супруг Форкий, изображавшийся в виде получеловеческого существа с телом рыбы и крабьими клешнями. Мифы записывают в потомство Форкия упомянутых выше Полифема и Скиллу и множество иных чудовищ.

Одно из них — Медуза Горгона, имеющая прямое отражение в лавкрафтовском бестиарии в виде героини рассказа «Локон Медузы»: роковой красавицы с волосами, подобными змеям, ставшими основой для очередного пугающего культа:
В их вере содержался какой-то бред относительно змей и человеческих волос… Денис имел обыкновение цитировать странные слова Марша насчет загадочных легенд о змееобразных локонах Медузы, а также по поводу мифа эпохи Птолемея о Беренике, ради спасения брата-мужа предложившей свои волосы, которые были вознесены на небо, став созвездием Волосы Береники.
Любопытно, что в данном рассказе Марселина прямо именуется дочерью Ктулху — как оригинальная Медуза была дочерью Форкия. Другим женовидным существом, чудовищного облика была Кампа — одно из древнейших порождений Тартара, страж находящихся с ней в родстве гекатонохейров, убитая Зевсом. Ее обличье отличалось еще более изощренным разнообразием, чем у Ктулху или Тифона: согласно греческому поэту Нонну Паннополитанскому была она «змеестопной» и ядовитой, «в извилистом теле тысячи ликов собрала… звериных и чудищ», две головы походили на Сфингу и Скиллу, в «середине же девой являлась» со змеями «вместо кудрей», с длинными когтями «на многочисленных дланях», от груди и до паховых складок имела пурпурную чешую, как у морских чудовищ, а хвост — скорпиона.
Все эти монструозные описания весьма схожи с иными из тварей Лавкрафта. Особенно хорошо они накладываются на описание из рассказа «Ужас Данвича»:
Частично существо это было, несомненно, человекоподобным, руки и голова были очень похожи на человеческие, козлиное лицо без подбородка носило отпечаток семьи Уотли… Выше пояса оно было полуантропоморфным, хотя его грудь, куда все еще впивались когти настороженного пса, была покрыта сетчатой кожей, наподобие крокодиловой. Спина пестрела желтыми и черными пятнами, напоминая чешую некоторых змей... Кожа была покрыты густой черной шерстью, а из области живота мягко свисали длинные зеленовато-серые щупальца с красными ртами-присосками. На каждом из бедер, глубоко погруженные в розоватые реснитчатые орбиты, располагались некие подобия глаз; на месте хвоста у существа имелся своего рода хобот, составленный из пурпурных колечек, по всем признакам представлявший собой недоразвитый рот. Конечности, если не считать покрывавшей их густой шерсти, напоминали лапы гигантских доисторических ящеров; на концах их находились изборожденные венами подушечки, которые не походили ни на когти, ни на копыта.
О, о мой Бог, эта половина лица — эта половина лица на самом верху... это лицо с красными глазами и белесыми курчавыми волосами, и без подбородка, как Уотли... Это был осьминог, головоногое, паук — или все вместе, но у них было почти человеческое лицо, там, вверху, и оно было лицом Колдуна Уотли, только... только размерами оно было в целые ярды, целые ярды.
Данные создания были братьями-близнецами, рожденными слабоумной альбиноской Лавинией Уотли, дочерью известного в округе колдуна Уотли. Что же до отца, то в финале рассказа выясняется, что им был не кто иной, как Йог-Сотот — еще один из Великих Древних лавкрафтовского пантеоне:
Что же касается той твари... семейство Уотли растило ее для выполнения страшнейшей роли в том, что должно было произойти. Существо это росло быстро и стало столь гигантским по той же причине, что и Уилбур — но оно обогнало Уилбура в размерах и темпах роста — потому что в нем было больше потустороннего... Это был его брат — близнец, но он больше, чем Уилбур, походил на отца.

Мишель Уэльбек в своем эссе «Г. Ф. Лавкрафт: против человечества, против прогресса» предсказуемо интерпретирует «Ужас Данвича» в духе леволиберальных интеллектуалов современного Запада, сводя все к «расизму» Лавкрафта:
В целом мифология Лавкрафта изрядно оригинальна; но порой она предстает как устрашающая инверсия христианской тематики. Это особенно ощутимо в «Ужасе Данвича», где неграмотная селянка, не познавшая мужа, производит на свет чудовищное создание, наделенное сверхчеловеческими силами. Это воплощение-перевертыш кончает мерзейшей пародией на претерпенье Страстей, где создание это, приносимое на заклание на взлобье холма, возвышающегося над Данвичем, испускает отчаянный крик: «Отче, отче... Йог-Сотот!», верный отголосок «Eloi, Eloi, lamma sabachtani!» Лавкрафт отыскивает здесь очень древний исток фантастического: Зло, рожденное от противоестественного плотского союза. Это представление совершенно срастается с его маниакальным расизмом; для него, как для всех расистов, ужасом, возведенным в абсолют, оказывается даже не столько другая раса, как смешение, скрещивание. Применяя одновременно свои познания в генетике и свое знакомство с сакральными текстами, он созидает взрывоопасное целое, неслыханное по тошнотворности. Христу как новому Адаму, пришедшему возродить человечество любовью, Лавкрафт противополагает «негра», пришедшему возродить человечество скотством и пороком.
Однако с ничуть не меньшим основанием можно увидеть здесь и очередную дань увлечению Лавкрафта античной мифологией, с ее бесчисленными примерами плотских сношений между людьми и богами. Плодом этой связи могут быть как величайшие герои, так и чудовища вроде Минотавра. В этом плане можно интерпретировать и «Тени над Иннсмутом», где сношения людей и Глубоководных стали основой для культа Дагона и Гидры. Сам Лавкрафт всегда позиционировал себя как сугубый материалист — и также материальны его боги, пусть их материя отличается от той, из которой состоят наши тела. Но также можно интерпретировать и языческих богов — в том числе и в обсуждаемой тут античности. Олимпийцы также предстают как иная форма материи: хотя божественная плоть и представляется подобной человеческой, настолько, что боги и люди способны порождать потомство, тем не менее эта плоть обладает и не свойственными человеку качествами: бессмертием, способностью к метаморфозам, неподверженностью болезням. Соответственно, и отношение олимпийских богов к людям мало чем отличается от аналогичного отношения к ним божеств Мифов Ктулху. Подход же Великих Древних к человечеству вполне адекватно сформулировал Мишель Уэльбек:
Из своих путешествий в сомнительных краях несказанного Лавкрафт вернулся, не принеся нам добрых вестей… Возможно, что за пределами ограниченной сферы нашего восприятия есть другие живые существа. Другие создания, другие расы, другие понятия и другой разум. Некоторые из этих существ, вероятно, намного превосходят нас по интеллекту и знаниям. Но это не обязательно добрая весть. Что заставляет нас думать, что эти создания, столь отличные от нас, имеют природу духовную? Ничто не позволяет предположить нарушения универсальных законов эгоизма и злобы. Смешно воображать, что на краю космического пространства нас ожидают существа, исполненные мудрости и благожелательности, чтобы подвести нас к некой гармонии. Чтобы представить себе, как они поведут себя с нами, если мы вступим с ними в контакт, стоит лучше припомнить, как мы обращаемся с низшими по интеллекту тварями, какими являются кролики и лягушки. В лучшем случае они служат нам пищей, а также мы частенько убиваем их ради простого удовольствия убивать. Может наиболее совершенные человеческие экземпляры удостоятся чести угодить на стол препаратора.
А вот что говорит об отношении греческих богов к людям профессор Андрей Зубов — российский историк, религиовед и политолог:
Доминирующим было знание, что между богами и людьми лежит пропасть. И первый момент этой пропасти — это бессмертие богов и смертность людей... Боги презирают людей — это много раз говорится. Боги смотрят на людей как на нечто низшее, в лучшем случае — как барин смотрит на крепостных мужиков. Он еще может захотеть соединиться с какой-нибудь красивой молодой крестьянкой, как и боги вступали в связи с людьми, но в целом он презирает это грязное мужичье, этих смердящих холопов... В «Илиаде» есть такой момент, когда Диомед, один из ахейских героев, сам того не понимая, вступает в сражение с богом Аполлоном. Аполлон отражает его мощные удары и возмущен тем, что он на него напал. Аполлон говорит Диомеду, сыну Тидея: «Вспомни себя, отступи, и не мысли равняться с богами…». «Вспомни себя» — это значит «вспомни о том, что ты — человек». «Никогда меж собою не будет подобно племя бессмертных богов и по праху влачащихся смертных!
Чувство временного бытия человека перед лицом богов — вот главная мысль, что роднит мифологию Лавкрафта с мифологией античности. Обе картины мироздания, античную и лавкрафтовскую, роднит глубочайший фатализм. Идея властвующей над всем Судьбы, неумолимого Рока, одинаково прослеживается и там, и там. Отсюда и убежденность, что от многих знаний — многие печали. Сравните, например, еще одно высказывание Зубова:
Хор трагедии Еврипида не хочет знать глубинную сущность явлений, потому что глубинная сущность явлений для грека страшна. Она открывает бездны...
И начальные строки из «Зова Ктулху»:
Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является неспособность человеческого разума связать воедино все, что этот мир в себя включает. Мы живем на тихом островке невежества посреди темного моря бесконечности, и нам вовсе не следует плавать на далекие расстояния...настанет день и объединение разрозненных доселе обрывков знания откроет перед нами такие ужасающие виды реальности, что мы либо потеряем рассудок от увиденного, либо постараемся скрыться от этого губительного просветления в покое и безопасности нового средневековья.
Различие между богами и хтоническими чудовищами, не всегда просматриваемое даже в античной мифологии, в интерпретации Лавкрафта теряется вовсе. Если в более ранних рассказах действуют или хотя бы упоминаются более-менее классические божества — Пан, Артемида, Гипнос, то в Мифах Ктулху все иначе. Можно сказать, что Лавкрафт объединил Зевса с Тифоном, Посейдона с Форкием, а Кибелу с Кампой. И эти существа — столь же могущественные, как олимпийцы, и столь же ужасающие, как противостоящие им чудовища, являются символами и воплощением сил, правящих мирозданием. Йог-Сотот оказывается достаточно личностным, чтобы оплодотворить смертную женщину, но в то же время он — один из основополагающих принципов лавкрафтовской вселенной. В рассказе «Врата Серебряного ключа» Лавкрафт представляет Йог-Сотота так:
Безграничное Бытие воплощавшее Все-в-одном и Одно-во-всем... Оно заключало в себе не только время и пространство, но и весь универсум с его безмерным размахом, не знающим пределов и превосходящим любые расчеты математиков и астрономов.
Йог-Сотот, также как Азатот и Ньярлатхотеп, есть воплощения Хаоса, который Лавкрафт кладет в основу своей концепции мироздания. Но схоже Хаос воспринимается и в античной традиции. Хаос часто отождествляется с Тартаром — подземной бездной, безвозвратно поглощающей все некогда живое и символизирующей смерть. У Марка Аврелия, Хаос — это бездна времени, «бесконечная в обе стороны вечность», беспредельная ненасытность, неумолимо поглощающая все сущее. В позднем пифагореизме хаосом называют Единое, желая подчеркнуть его непознаваемость и тьму. Однако схожая концепция проглядывает и в творчестве Лавкрафта: в рассказах «Хаос Наступающий» и «Память», в стихотворении «Ньярлатхотеп», в описаниях Йог-Сотота, Азатота и Ньярлатхотепа, который также зовется Ползучим Хаосом.
Хаос персонифицирован — как и в иных античных источниках. Так, в поэме римского философа Сенеки «Медея», колдунья и жрица Гекаты, взывает к «слепому извечному Хаосу», а в иных текстах уже к самой Гекате обращаются: «Ночь — ты, и Мрак — ты, и Хаос широкий».
В другом персонаже лавкрафтовской мифологии, Шуб-Ниггурат, Черной Козе Лесов, просматриваются одновременно черты Великого бога Пана и Великой Матери (Кибелы или Гекаты).
Не стоит, конечно, прямо отождествлять то или иное божество Мифов Ктулху с конкретными персонажами античной мифологии. Очевидны заимствования и у иных народов: в имени Ньярлатхотепа, например, читаются египетские корни, на образ Ктулху, возможно, оказали влияние полинезийские мифы и суеверия европейских поселенцев, а в именах Йог-Сотота и Шуб-Ниггурат слышится нечто семитское. Но чем бы ни вдохновлялся Лавкрафт при создании того или иного божества, все они вписаны в общую концепцию его Мифов, которые, в свою очередь, близки именно к античности. Это вполне закономерно, если учесть, что греко-римская мифология была известна Лавкрафту больше, чем какая-либо иная. Сознательно или нет, Лавкрафт многое почерпнул из этого источника — но немало принес и своего. Очистив античные предания от наивного антропоморфизма древних, он пропустил их через призму собственных познаний в истории, биологии и астрономии, придав им поистине вселенский размах и космический ужас. Затем Лавкрафт заключил полученное творение в антураж современных ему США, разбавив — что греха таить — собственными расовыми предрассудками. Итогом всего этого и стала та причудливая и ужасающая мифология, что вот уже почти век служит источником вдохновения для поклонников хоррора.




Комментариев: 0 RSS